«Wеlcome Aboard!». Василий Аксенов на «Свободе» [1]
Во время вынужденной эмиграции Василий Аксенов с 1980 г. регулярно выступал на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки». Позднее, уже после возвращения в Россию, он издал книгу своих радиовыступлений на радио «Свобода» и дал ей ироничное название «Десятилетие клеветы» (2004). Почему «клеветы», потому что любое не подцензурное слово воспринималось советской властью как подрывное действие и как клевета. И на пути такого слова, особенно если оно доносилось из-за рубежа, воздвигались всевозможные препоны и преграды. В частности, передачи зарубежных радиостанций на русском языке глушились. Но несмотря на это, тысячи читателей Василия Аксенова, приникали ухом к радиоприемнику, чтобы услышать знакомый голос, прорывающийся сквозь вой советских глушилок.
Публикуемый здесь текст не вошел в упомянутую книгу. Запись этого радиовыступления Василия Аксенова в октябре 1987 года найдена в архиве радиостанции «Свобода», недавно открывшемся для общего пользования
Передача была посвящена долгожданному прибытию в Нью-Йорк поэтессы Беллы Дижур, матери прославленного скульптора Эрнста Неизвестного. Отношение Василия Аксенова к героине своего эссе трогательно теплое, он ощущает в ней родство со своей матерью, автором знаменитого «Крутого маршрута», Евгенией Гинзбург. На правах полноправного американского гражданина Василий Аксенов говорит Белле Дижур: «Welcome aboard!»
Виктор Есипов
«Я не догадывалась раньше, // Что куст рябины мне родня» — пишет Белла Дижур в одном из своих прибалтийских стихотворений. Я и раньше замечал, что скромная природа тех побережий силой каких-то своих, неведомых нам, а только лишь весьма угадываемых пропорций располагает к чувству полного с ней слияния. Это ощущалось и в творчестве литовских графиков: линия Стасиса Красаускаса вольно перетекает из человеческого тела в дюны, сосны и кусты, профилем обращаясь в звездные поля. Есть в этом что-то сродни молитвам Франциска Ассизского с его обращениями к братцу волку и к сестрице голубке.
В собственном предисловии к сборнику избранных стихов Белла Дижур говорит о трех городах родины, о трех болевых точках, которые она покинула, чтобы переселиться в Нью-Йорк, ближе к своему сыну, скульптору Эрнсту Неизвестному. Это Ленинград, Свердловск и Юрмала. Невольно подумалось об этих местах и как о точках родства. Ленинград и для меня был городом юности, Прибалтика была краем и моих очарований, к уральскому же гиганту имеет все-таки некоторое отношение предуральская раскидуха, моя родная Казань.
Большая жизнь стоит за всеми этими строчками, и недаром сборник стихов разных лет открывается двумя четверостишиями, написанными, очевидно, недавно:
Как много было стыдной шелухи
Пустых обид и поисков признанья,
Но лишь кровоточащие стихи
Быть могут этой жизни оправданьем.
И далее:
День ото дня все суше мой язык,
И звуков гордых в горле не осталось.
В движениях замедленных сквозит
Суровость, одиночество, усталость.
Трудно здесь не заметить и ритмику, и горечь шекспировского 66-го сонета.
У горечи этой немало истоков, и, может быть, первый из них — страстная и грубо неразделенная любовь к родине:
Да. Я уезжаю...
Ах, я уезжаю!
И горько прощаюсь
с родным языком.
Россия!
Отчизна моя дорогая!
Мой старый, мой бедный
отеческий дом.
Чужие вокзалы,
чужие кварталы,
чужие наречья —
зачем они мне?
Но что же нам делать
с извечной опалой,
с извечной опалой
в родной стороне?
Мы ржавые листья,
рожденные в гетто...
«Мы ржавые листья
на ржавых дубах...»
Нас ветер истории
носит по свету.
Библейские страсти
мы носим в сердцах.
Еврейский русский патриотизм может быть не более истинным, чем русский корневой, но уж, во всяком случае, он более пронзителен. Русский поэт-еврей в изумлении поворачивается к сумрачным лицам: почему они помнят только дурное, а не помнят Пастернака и Мандельштама? Почему они всегда так обобщают, а не по-другому?
Сколько же поколений должно пройти через российскую жестокую историю со всеми ее погромами, революциями и ГУЛАГами, чтобы преодолен был атавистический взгляд на чужака? Отсюда начинается исход.
Показательно, что для Беллы Дижур ее нежная русская родина связана с образом бедного старого дома. Образы пресловутого величия — это всегда отчуждение, всегда в чужом пиру похмелье. Милость и сострадание, если они еще остались на Руси, в закоулках ли старого дома, вот они, родные тихие звуки. Эпоха, будь она неладна, закручивает ржавые листья в центробежную фугу.
Есть порок у меня — я люблю тишину
Переулочков и тупиков старину,
Над бревенчатым домом бесшумный закат
И осенний, расписанный золотом, сад.
Старомодные вкусы, забытый мирок,
Девятнадцатый век на исходе.
В этой причастности к XIX веку я вижу определенное родство Беллы Дижур с моей матерью, Евгенией Гинзбург, и понимаю, что они принадлежат примерно к одному типу российских интеллигенток. Немалой отвагой, между прочим, надо обладать, чтобы в одночасье покинуть «переулочков и тупичков старину» и рвануть в космополитические агорафобические[2] пространства, чтобы приземлиться в немыслимом Нью-Йорке. В этом тоже мне видится некая близость к прорыву, совершенному моей матерью.
В течение долгих лет Белла Дижур была членом Союза писателей СССР, его свердловского отделения, выпустила немало поэтических сборников. Внешне все это выглядит как вполне нормальная, даже привилегированная профессиональная литературная жизнь. На самом-то деле, знаю это и по собственному опыту, жизнь эта состояла из множества мелких обид, паршивых придирок, а иногда перед поэтессой развертывалась и подлинная бездна унижений.
Как все это знакомо! Редактор уральского журнала читает стихи «Монолог Евы» и упирается пальцем в строчку: «На опушке ночного леса // Я рожала за сыном сына — Одиссеев и Геркулесов…», ворчит: “Что это вы мне тут подсовываете всяких геркулесов? Ведь геркулес — это каша!”»
Цикл «Стихи о сыне», посвященный юному Эрнсту, воевавшему против фашистов (как тут не вспомнить Вознесенского: «Лейтенант Неизвестный Эрнст…»), заворачивается — не прошел по «пессимизму».
После доклада Жданова[3] свердловская писательская организация выделила по разнарядке свою «Ахматову для битья». Это была Белла Дижур. Ее обвиняли в эстетизме и камерности, из которых пару годиков спустя вполне естественно поэтесса перекатилась в разряд «беспачпортных космополитов». Современной молодежи все это может показаться не столь уж страшным, но мы-то помним, чем оборачивались эти ярлыки и формулировочки в те времена, когда против творческого пессимизма прописывали оптимизм колымского лесоповала. К счастью, Белле Дижур удалось избежать этой терапии, и этот счастливый удел, конечно, был игрой случая или даже чистым чудом, потому что она, в отличие от ошалевшего от страха персонажа мандельштамовской «Четвертой прозы», никогда не делала себе «прививки от расстрела», то есть не ловчила, не коверкала свой голос, а пронесла через всю свою творческую жизнь свой так называемый «пессимизм», то есть искренность и чистоту.
Вот эти пассажи чистоты из старых стихов, а именно из письма Осе[4], то есть любимому человеку, отцу моего друга Эрнста:
Февраль, неожиданно свежий
И колющий веки до слез,
Бесснежными ветками режет
Небес голубой купорос.
И острее во много раз
Все детали помнишь в разлуке:
Жест, улыбку, движенье глаз,
В синих жилках родные руки,
Полку с книгами на стене,
Затянувшийся спор с друзьями,
Тополиную тень в окне,
Что незримо старела с нами.
Эти пассажи напоминают простые и мирные звуки скрипичного концерта Бетховена.
«Осенью 1943 года, — вспоминает поэтесса, — на Урал привезли группу польских детей. На станции Хрустальная был организован детский дом, директором которого стал Александр Левин[5], ныне профессор Варшавского университета. От него-то я впервые и услышала о старом докторе Януше Корчаке[6]. Тогда и возникла поэма об удивительной героической судьбе этого человека».
После войны Левин увез поэму в Польшу, где она была переведена на польский и еврейский, а в Свердловске между тем вокруг поэмы Беллы Дижур началась свистопляска. И впрямь не очень-то ко двору во время борьбы с космополитизмом оказалась поэма, начинавшаяся следующими стансами:
Я не росла в глухих кварталах гетто,
Мне дым его печальный незнаком,
И если честно говорить об этом,
Был не еврейским мой отцовский дом.
Но в дни, когда, как встарь, на перепутье
Народ мой вновь поруганный стоит,
Я вновь еврейка всей своею сутью,
Всей силой незаслуженных обид.
В свердловской газете писали: «Дижур нашла себе в герои некоего Януса, который встал на колени перед Гитлером!» Система требовала, чтобы везде были свои «сионисты» и «космополиты».
А между тем оказавшаяся на Западе поэма «Януш Корчак» жила своей жизнью и получала повсеместное признание. Неизвестный на одном из концертов в Нью-Йорке услышал кантату на слова своей матери, пребывавшей тогда в «отказе». Корчаковский комитет Западной Германии присвоил Белле Дижур звание лауреата. Идеалисты и священники из этого комитета отправились даже в СССР, чтобы вручить старой поэтессе почетные знаки.
Только лишь идеализм и оправдывает человечество. Идеализм и глубокое душевное спокойствие характерны для стихов Беллы Дижур:
В большой Вселенной маленький мирок.
Не комната — всего лишь уголок.
Окно в полнеба, книга у окна,
Краюшка хлеба и стакан вина.
В этом году Белла Дижур переселилась на Запад, теперь она живет в Нью-Йорке. В литературе Русского Зарубежья появился еще один творческий и философский поэт. Скажем ей на американский манер: «Welcome aboard!»
Подготовка публикации, вступительный текст и примечания Виктора Есипова и Андрея Кулика.
[1] Радио «Свобода», октябрь 1987.
[2] Страх покинуть дом одному или оказаться в толпе.
[3] В августе 1946 года выступил с докладом, разоблачающим творчество писателей, идеологически чуждых линии партии, главный удар был направлен на лирику Анны Ахматовой и сатиру Михаила Зощенко.
[4] Иосиф Моисеевич Неизвестный (1898— 1979) – отец Эрнста Неизвестного. В гражданскую войну – белый офицер.
[5] Левин Александр (1915 – 2002) – польский педагог, теоретик образования и воспитания.
[6] Корчак Януш (1878 – 1942) – польский педагог, писатель, врач; в 1942 году добровольно разделил участь детей, своих воспитанников еврейского Дома сирот, отправленных в газовую камеру в нацистском концлагере Треблинка.

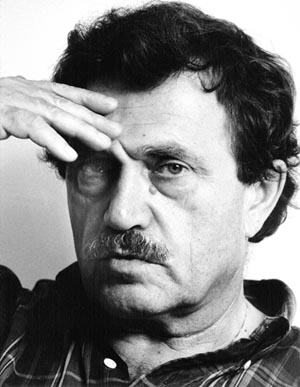
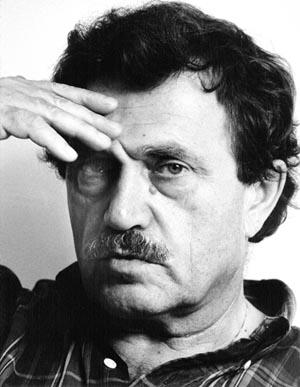




Добавить комментарий