Анатолию Либерману
Из всех времён, со всех сторон
давно изученного света
текут сквозь нас и Стикс, и Лета,
и темноводный Ахерон.
Мы глыбу времени не стронем
на плитах Азий и Европ,
где есть не только хронотоп,
но и топоним, и гидроним.
Слова имеют смысл условный,
невидимый, но родословный,
он всё неясней с каждым днём,
ты знаешь больше всех о нём.
Я помню первые слова
и белый томик Маршака,
и площадь около вокзала,
там подо льдом текла река
и берега соединяла.
То ли на «об» то ли на «ва» —
имён известна глубина,
они уже текут не скрытно,
финно-угорски и санскритно,
и им проставлена цена,
и список их включён в отчёт,
пока история течёт.
Есть отражение небес
и берег, левый или правый
у каждой выжившей реки;
и Иордан, ручей чудес,
и Борисфен, теперь кровавый,
свои имеют языки.
Пока ещё мы здесь при чём,
горсть мелочи добавь в копилку;
не запечатывай бутылку
почтамтским ломким сургучом.
Пусть там, под аркою Генштаба,
остались мёртвые слова—
течёт небесная Нева
долиной нового Дуаба.
2 января 2025
На водосборах Ойкумены, или комментарии aвтора к стихотворению «Реки» (2025)
Это стихотворение (38 строк) посвящено известному этимологу, лингвисту, поэту, переводчику и критику Анатолию Либерману (Миннеаполис, Миннесота, США). Его критические обзоры давно стали важной частью свободной русскоязычной периодики в Америке и Европе. Я рад возможности посвятить профессору Либерману этот текст.
Текст стихотворения явно нуждается в комментариях, хотя бы частичных и любительских. Я совсем не лингвист, но следую Виктору Шкловскому, который называл себя «рыба-ихтиолог»; и вправду, кто лучше автора может пояснить, что он имел в виду? Другое дело, что любая ссылка в достаточно сложном тексте может породить разветвленные цепи ассоциаций. Удачей можно считать, видимо, ситуацию, когда читатель увидит хотя бы поверхностную часть подобных цепочек.
Профессор Либерман — не только германист, специалист по скандинавской литературе; не только поэт и переводчик на английский Баратынского, Тютчева, Лермонтова; он прежде всего и профессиональный этимолог (не путать с энтомологом!), то есть исследователь происхождения слов. Много лет он ведёт еженедельный блог на сайте Оксфордского университета, рассказывая об истории английских слов.
Кроме того, именно Либерман переводил и комментировал работы Владимира Проппа и сделал широко известной его «Морфологию сказки», а также знаменитого лингвиста, основателя фонологии, евразийца Николая Трубецкого. Отсюда в стихотворении и «плиты Азий и Европ» (Евразия, или же Азиопа; плиты эти тектонические, подвижные).
В центре стихотворения — игра с этимологией географических названий — гидронимов, в данном случае названий рек. Реки, их долины и берега — основополагающий и древнейший компонент сознания всех основных культур мира. Еще до школы все мы знали десятки их названий: Волга, Енисей, Клязьма, Нил, Амур, Амазонка, Миссисипи, Сена, Лета. Нет смысла цитировать здесь тома исследований, посвященных гидронимам, да я их и не читал. Зато я жил много лет в Средней Азии и знаю не только тюркское слово «су» или «сув» (река/вода), но и его индоевропейский (таджикский, санскритский) эквивалент — «аб» или «об». И еще в детстве я вычитал (возможно, в отрывном календаре - тогдашнем предке Википедии), что финно-угорский эквивалент — это «ва» (Нева, Москва). Другой финно-угорский корень для воды или реки — «га» (Волга, Онега).
Я вырос на берегах Оби, Либерман — на берегах Невы. «Там подо льдом текла река…» «площадь около вокзала» относится к детству и в Новосибирске, и в Ленинграде — да и в любом российском городе, где звучали на родном языке наши «первые слова».
Так уже самый первый, простейший слой гидронимной игры уводит нас в бездонную ностратическую глубину: ведь финно-угорское «ва» и индоевропейское «об» разошлись от общего предка в незапамятные времена, гораздо ранее сотворения мира по многим календарям. Справившись в Википедии, я даю оценку в 15 000 лет (верхний палеолит), а специалист меня может поправить. До Моисеевых скрижалей оставалось ещё много тысяч лет…
Но стихотворение начинается с триады рек древнегреческих, из подземного царства, знакомых нам по мифам в пересказе Куна: Стикс, Лета, Ахерон. (Вообще их было пять, включая Флегетон и Коцит). Лету, реку забвения, знают все. Помнят и паромщика Харона, перевозчика душ через Стикс (а иногда и Ахерон). Иордан в те же времена уже впадал в озеро Киннерет и их названия не изменялись. А на противоположном краю древней Ойкумены протекал Борисфен, нынешний Днепр…
Все эти гидронимы хорошо известны — но читателя, конечно же, сразу удивит и озадачит последнее слово стихотворения, совершенно непонятное «Дуаб». Что это — какая-то экзотическая выдумка на манер Гумилёва или Бальмонта?
В общем, догадаться при желании можно: «аб» — это река, как сказано выше, а тогда по созвучию узнается и индоевропейское «ду» (два). Стало быть, «Дуаб» означает просто «Двуречье». Более того, набрав это слово по-английски в Гугле, вы узнаете, что Duab или Doab — это один из многих район слияния двух рек в Индии, как, например, возле города Аллахабада при впадении в священный Ганг его притока Джамны. Таких Доабов в Индии немало, и к вышеперечисленным гидронимам можно добавить и все эти водосборы.
Ну и, само собой, Междуречье Тигра и Евфрата, эдемская Месопотамия, тоже сразу приходит на ум… Пенджаб — Пятиречье… Топонимы на «аб/об» разбросаны по всей Ойкумене, от Оби до Варзоба, а Дуабы при ближайшем рассмотрении указателя к атласу встречаются от Абхазии до Узбекистана.
Однако автор теперь обязан раскрыть свой главный источник слова «Дуаб»— хотя и понимает, что дальнейший текст приблизится к пародии на роман Набокова «Дар», но что поделать. После написания этого стихотворения я стал вспоминать, почему я знаю это странное слово, откуда же всплыло оно при сочинении финальной кодой, рифмою на «Генштаба»?
Гугл помог, как нередко бывает, и выдал мне название книги, увиденной мною впервые лет семь назад, «The Duab of Turkestan»(«Туркестанский Дуаб», 1913).
Ее автор — немецкий путешественник и альпинист Вилли Рикмер-Рикмерс (1873-1965); это имя хорошо известно географам Средней Азии. Рикмерс одним из первых исследовал Памир, взбирался на могучие вершины тогдашней «Горной Бухары». Оттуда Рикмерс привез в Германию и зоологические коллекции, и в 1900 году зоолог Карл Крепелин (oтец знаменитого психиатра, открывшего МДП)* описал по сборам Рикмерса новый, редчайший вид скорпионов, Аnomalobuthus rickmersi.
Постойте, воскликнет читатель: при чём тут скорпионы? Мы все носим много разных шляп, как говорит англоязычная пословица. Так уж получилось, что я, профессиональный зоолог, занимаюсь этими ядовитыми хвостоколами уже более 50 лет, со школьной скамьи. И именно редкую тварюшку из «Бухары» которую Крепелин назвал в честь Рикмерса, желто-янтарную с черным горностайным кончиком ядовитого хвоста, я знаю лично с 1968 (!) года—с восьмого класса! Тогда новосибирские зоологи доверили мне разбирать свои каракумские коллекции. И вот уже полвека я постоянно возвращаюсь к этому мифогенному зверю (у шумеров скорпионы стерегли ворота в ад). В 1976-1987 я работал зоологом в Средней Азии; скорпионов там было навалом, но кто же знал, что среди них было немало новых видов, которые мы с коллегами опишем впоследствии! Как учил нас тот же Гумилёв, «наш мир не открыт до конца»…
В 2000 в Гамбурге я держал в руках типовой экземпляр, собранный Рикмерсом и уцелевший сквозь обе мировые войны.
В 2002 я в последний раз собирал этих мелких чернохвостиков по всей Средней Азии. В 2012 мы с моими американскими студентами впервые опубликовали данные по их ДНК, а в 2018, наконец, и большую работу по всем известным видам аномалобутусов.
Изучая маршруты Рикмерса, я и набрел в Интернете на его англоязычную книгу 1913 года. И именно в ней я обнаружил точное место, где скорпион был собран Рикмерсом ещё во владениях бухарского эмира — в нынешнем Таджикистане, возле города Бальджуан. (Именно там, к слову, будет в 1922 убит в бою знаменитый младотурок и вождь басмачей Энвер-паша, но это уже совсем другая история.)
Замечательно, что сам Рикмерс в предисловии признавал, что слово “Дуаб” может удивить читателя. Рикмерс первым (и, похоже, последним) применил этот индостанский термин по отношению к пространству, лежащему между двух великих рек Туркестана. Александр Македонский, дошедший до этого края Ойкумены, знал их под названиями Оксус и Яксарт. Нам же они известны как Аму-Дарья и Сыр-Дарья; вот вам и очередное Двуречье.
Аккорд финальной рифмы стихотворения соединяет Неву и великие реки Центральной Азии — пересекая империю, которая умирает и распадается на наших глазах уже как минимум сто лет…
В стихотворении «Реки» можно обнаружить ещё немало речных и языковых систем. Нева указывает на Петербург— но те, кто не знает бывшего Ленинграда, не сразу поймут строку про арку Генштаба. Это архитектурное произведение (Карло Росси, 1820) не только обозначает центр империи, Дворцовую площадь, но и соседствует с Главпочтамтом. Отсюда и ломкий сургуч, которым ещё на моей памяти запечатывали посылки и бандероли. А сколько этих посылок с книгами на русском языке отправил я именно оттуда в Америку перед эмиграцией в 1987 г.! И думаю, не я один…
Отсылка к имперской столице тут же вызовет в памяти «желтизну правительственных зданий» Мандельштама, но в «мёртвых словах» многие узнают цитату из самого известного стихотворения Гумилёва («и как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мёртвые слова.»). А пчелы — это снова Мандельштам: золотистый мёд, мохнатые поцелуи, древняя Греция.
И в то же время мимо Дворцовой площади Гумилёв гремит своим бешеным заблудившимся трамваем по трём мостам— «через Неву, через Нил и Сену», и опять расширяет гидрографическую сеть.
Можно бесконечно плести эти гиперссылки на интертексты, привлекая и Льва Мечникова по части великих рек и их роли в истории; и Дунай, и Тибр, и Арно; и литературные аналогии Невы с Летой и Рейном, видимые сквозь изрядную часть Серебряного века и его «Петербургского текста». Заметим, однако, что единственный поэт, прямо упомянутый в стихотворении, — это Маршак, и это не случайно.
В моем новосибирском детстве на берегах Оби, именно «белый» четырехтомник Самуила Яковлевича (1958-60) приобщил меня к поэзии, как и тысячи моих сверстников. Не зная Гумилёва, не ведая о Мандельштаме, мы вслепую хватались за оставшиеся нам ниточки стихов Серебряного века — а одной из них был Маршак (1887—1964), ровесник моего деда, один из немногих уцелевших мастеров. Он воспитал меня и, думаю, многих других каждою своей строкой — не только советским «Человек сказал Днепру / я стеной тебя запру» и талмудическим «Что мы сажаем, сажая леса?» — но всё, вплоть до «Королевы Элинор» и блейковского «Тигр, о тигр, светло горящий», уместилось в маленькие четыре томика времен хрущёвских послаблений (никакой не «оттепели», как оказалось...).
Таким образом, финальная рифма «Генштаба/ Дуаба» одним созвучием охватывает всю империю, всю ойкумену, огромный пласт событий, языков и рек. Пусть слова «Дуаб» никто не знает, но оно приглашает читателя к небольшому этимологическому исследованию, хоть тем же Гуглом. Он укажет и на знаменитый ОЕD, Oxford Etymological Dictionary, с которым профессор Либерман знаком лучше всех нас. Словарь этот дает duab или doab в значении interfluve, то же самое междуречье.
И, наконец, внезапный бонус.
«Междуречье» или «Двуречье» ведь можно прочесть и как производное от слова «речь». Истинное родство этих слов сомнительно, говорят этимологи. Но в стихах реки текут, как речь, а все знающие как минимум ещё один язык в дополнение к родному живут в состоянии двуречия или междуречия.
Читатель может далее развивать эти концепции на свойственном ему наречии.
----------
* Маниакально-депрессивный психоз, или биполярное аффективное расстройство (из Википедии, прим. ред.)

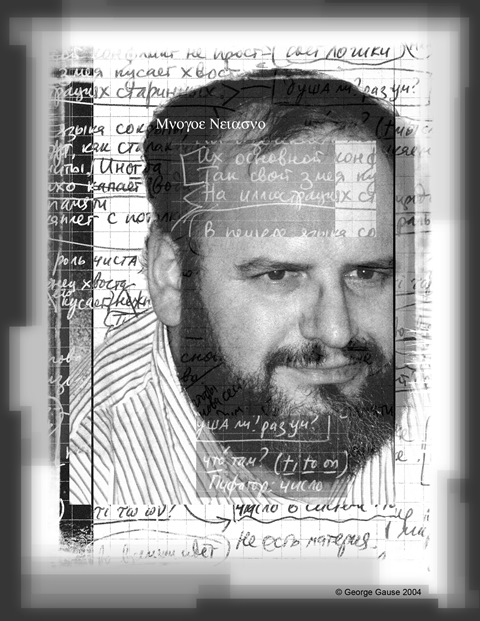


Комментарии
Благо, хоть реки не переименовывают
Благо, хоть реки не переименовывают. Как была Волга Волгой столетия назад, так и осталась. А вот города безжалостно переименовывали.
Добавить комментарий