Клонилось к закату самое страшное, самое кровавое десятилетие ХХ-го века. Мощный щит радиоглушилок прочно защищал советскую молодежь от бомб-зажигалок, забрасываемых Западом в коротковолновую щель железного занавеса.
А мы, старшеклассники и первокурсники, хватали на лету зажигательные диксилендовые ритмы рок-н-ролла, буги-вуги, свинга. В тесных коридорах коммуналок, на пыльных чердаках дач, на пригородных лесных полянках мы втихую отравлялись тлетворным влиянием американского джаза.
Но ледяные оковы советской подцензурной культуры не прекращали морозить наши обездоленные души, стывшие в холоде официозных песнопений и казенных плясок.
И вдруг, совершенно неожиданно, дверь советского ледникового погреба приоткрылась, и в нее, с высочайшего волеизъявления, был впущен великий артист, автор замечательных песен, блестящий бард и поэт – Александр Вертинский.
Мне посчастливилось попасть на его выступление в зале московского театра Миниатюр на улице Горького (ныне там драматический театр им. Ермоловой).
Я сидел высоко на галерке далеко от сцены, откуда было плохо видно и слабо слышно. Но все равно, удачливый обладатель дефицитного билета на тот аншлаговый концерт, я счастливо балдел, млея от прекрасных песенных миниатюр А.Вертинского.
В то время еще никому не приходило в голову именовать такие музыкальные произведения на французский манер шансонами или по-советски бардовскими песнями, их даже не называли тогда городскими романсами.
Этого и не требовалось, хватало того, что они были просто песнями Александра Вертинского. И так же, как через много лет из открытых окон по всей стране Советов звучал хрипловатый голос Высоцкого, так в конце 40-х повсюду слышался красивый, с картавинкой, баритон Вертинского. Среди тогдашней более или менее музыкально продвинутой публики мало кого можно было найти, кто почти без ошибок не спел бы "Банановый лимонный Сингапур", "Доченек", "Обезьянку Чарли", "Ваши пальцы пахнут ладаном", "Чужих городов" или еще что-нибудь из того, что появилось на скрипучих патефонных грампластинках Апрелевского завода.
И вот теперь (какой подарок судьбы!) уже не с пластмассовых кругляшек, а наяву, вживую, я мог насладиться непревзойденным искусством этого удивительного мастера. А ведь пел Вертинский блестяще и совершенно необычно, на сцене держался очень артистично, и совсем не так, как даже самые популярные тогда исполнители советских песен. То было незабываемое зрелище, куда до него и нынешним подплясывающим и кривляющимся звездам эстрады!
Больше всего меня потрясали его руки. Они жили своей отдельной от его тела жизнью. Фигура певца оставалась почти неподвижной, а тонкие длинные пальцы как будто танцевали на балетных пуантах - они вертели фуэте, па-де-де и па-де-труа, отбивали чечетку, крутились в вальсе, изгибались в танго. При этом, и его бледное аристократическое лицо с остатками волос на лысеющей голове оставалось серьезным, этаким замкнутым. И эта неулыбчивость, как не странно, лишь подчеркивала и оттеняла искусность игры голоса Вертинского.
Все это производило неизгладимое впечатление, вызывало всеобщий восторг, и к концу концерта ладони у меня сильно покраснели от горячих аплодисментов.
Надо признаться, в школьные и студенческие годы мои музыкальные познания, так же, как интересы, находились на круглом нуле, если не на жирном минусе. Таким же было мое музыкальное образование и способности, хотя не могу вспомнить, чтобы лапа какого-то гризли наступила на мой слуховой аппарат.
Правда, как всякого еврейского мальчика из интеллигентской семьи, меня пытались приковать к фортепьянным гаммам. Но из этого ничего не получалось - на клавиши вместо пальцев рук почему-то ложились пальцы ног, да еще и в сандалиях.
И вот теперь одним из главных фундаментов становления моего музыкального самосознания, кроме джазовых фокстротно-рокнролльных увлечений, стал А.Вертинский.
* * *
Сидя в тот вечер на жесткой скамье театрального амфитеатра, я вспомнил не менее знаменательное, но совсем не оцененное тогда мною событие, случившееся лет за десять до этого. Мы ехали с мамой к родственникам в послевоенном поезде Москва-Одесса.
За окном сиял солнечный июньский день, и мы, стоя в проходе у вагонного окна, любовались пробегавшими мимо сосновыми борами и березовыми перелесками.
Из соседнего купе вышел высокий чуть сутуловатый мужчина в длинном черном вельветовом халате. Он сначала постоял немного рядом у окна, потом, не отрывая глаз от мамы, обратился к ней с игривой улыбкой:
- Вряд ли я сильно ошибусь, если предположу, что в отличие от меня, вы не обременены какой-либо гастрольной поездкой.
Мама что-то ему ответила, и у них завязалась оживленная беседа о вышедших недавно на экран трофейных немецких и голливудских фильмах. Мне очень быстро стало это неинтересно, тем более, что на меня никто не обращал внимание. Я заскучал и ушел дочитывать своего "Айвенго".
Не помню сколько времени, хотя мне показалось, досадно долго, моя мамаша любезничала с тем незнакомцем, но, когда оживленная, раскрасневшаяся вернулась в купе, то с неприятным мне воодушевлением объяснила:
- Ты даже не можешь себе представить, с кем я только что познакомилась. Это же знаменитый артист Александр Вертинский, он меня даже пригласил зайти к нему в купе отметить недавнее его представление к Сталинской премии.
- Я надеюсь, ты отказалась? - спросил я с тревогой.
- Конечно, - успокоила меня мама.
...А ведь совершенно напрасно, подумал бы я сегодня.

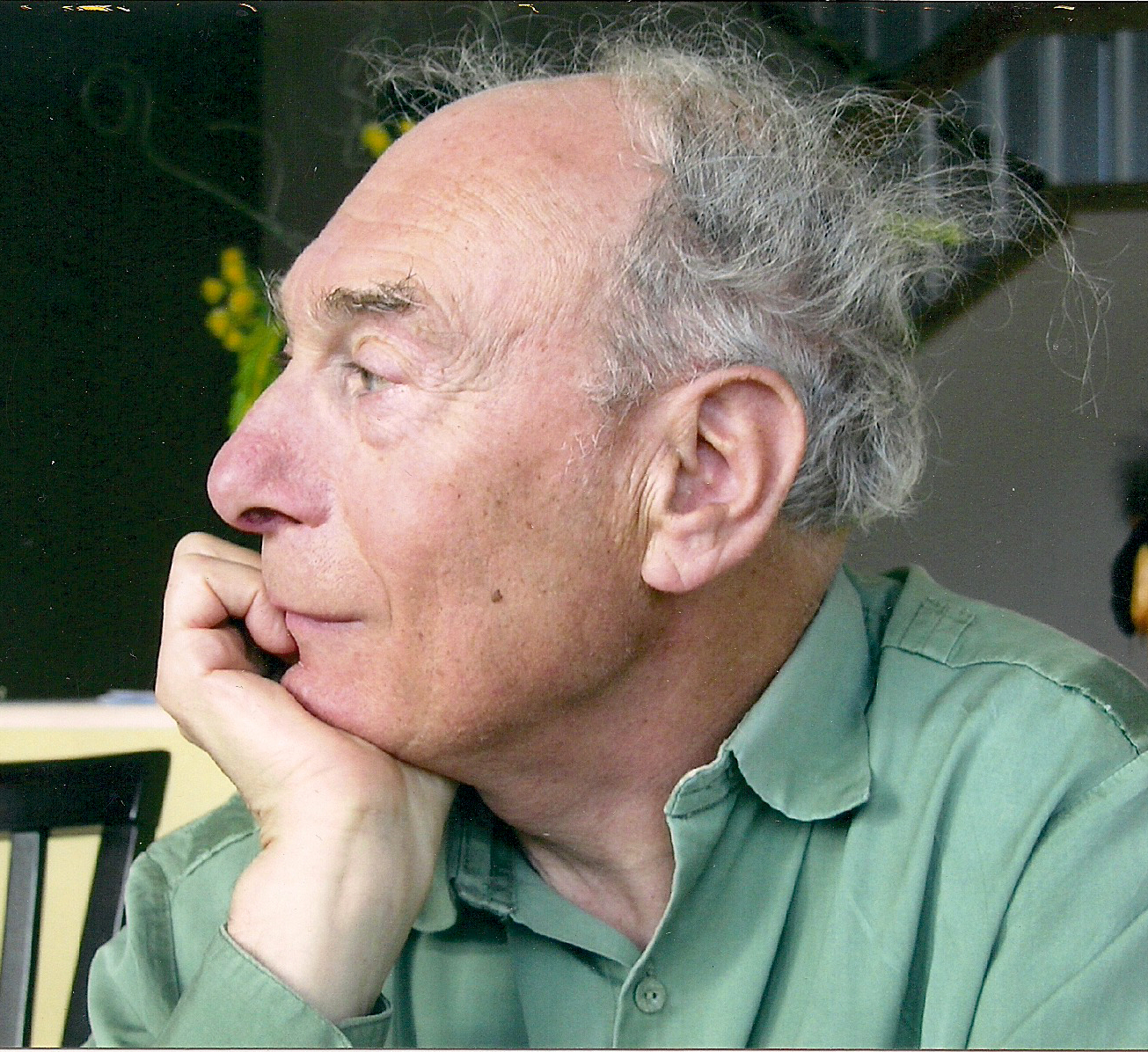



Добавить комментарий