Ирвин Ялом «Как я стал собой. Воспоминания» , М., Эксмо, 2025, пер. с англ. Э. Мельник
Какие-то новые профессии захватывают российский рынок - курьер, айтишник - и умы интеллектуалов – психотерапевт. В США обращение к психотерапевту входит в распорядок самых обычных людей, вовсе не «шизиков» и не «психопатов». Замечаю, что и у нас это становится некой «интеллектуальной» нормой, «правилом жизни» даже для лечащих врачей и вообще для людей, испытывающих сильные психические «перегрузки». Раньше мне казалось, что все дело в том, что в Америке - человеку просто не с кем посоветоваться, нет такого «задушевного» друга для самораскрытия. Но у нас-то в России он, как правило, есть. Ну и тогда - зачем?
Захватывающая книга - свежее переиздание мемуаров всемирно известного американского психотерапевта и литератора, профессора Стэнфордского университета - Ирвина Ялома, чьи родители были выходцами из белорусского местечка, - помогает снять испуг российского читателя перед этой профессией и показывает, что еще не известно, кто кого лечит - психотерапевт пациента, или тот его. Ялом признается, что с детства мечтал о старшем друге и советчике - прямо по Мандельштаму, страстно взыскующему не только читателя, но советчика и врача! Короче, при правильном подходе к психотерапии, как показывает автор, идет процесс взаимного исцеления.
В своей книге Ялом рассказывает один незабываемый случай. Начинающий практик в клинике Хопкинса, - он лечил впавшую в катоническое состояние пациентку - жену нефтяного магната, всегда молчащую и застывающую на часы в одной позе. Но он все же ежедневно с ней разговаривал, читал газетные заголовки, рассказывал о книгах и своих проблемах. И вот однажды она внезапно поднялась и поцеловала доктора.
А когда ей полегчало, сказала, что он был для нее «как хлеб насущный». Удивительный эпизод, который он навсегда запомнил! Автор понял, что нужно продолжать идти по пути общения, причем общения, важного для обоих, как это случается в одном из первых романов Ирвина Ялома «Когда Ницше плакал» (1992), многократно переизданном на русском языке издательством Эксмо. Там вообще происходят бесконечные «рокировки». «Сверхчеловек» Ницше берет на себя роль этакого врача-исцелителя, а известный венский психиатр, учитель Фрейда, Брейер, неожиданно понимает, что сам находится в полнейшем отчаянии.
Его преследуют эротические видения юной пациентки. Ницше кажется, что излечиться от любви легко. Забавно, но в романе Ялома он применяет то же «лекарство от любви», что и Овидий в своей знаменитой одноименной поэме: нужно представить героиню грез в какой-нибудь неприглядной ситуации. Не помогает! Ну, тогда надо полностью изменить жизнь, вырваться из тисков размеренного уклада. Читатель уже готов поверить, что Брейер, по примеру Толстого, бежит из благополучного семейного гнезда, от жены и детей, от благодарных пациентов и друзей - в неизвестность. Но это только гипнотический сон, в который погружает учителя Фрейд.
Однако сон освобождает Брейера от наваждения. И тогда уже сам «железный» Ницше рассказывает ему о своем отчаянии и своей неудавшейся любви, проливая при этом «человеческие, слишком человеческие» слезы. Оба по-своему «спасены». (Не могу не сказать в скобках, что несколько разочарована «терапевтическим» спасением персонажей ценой полного отказа от пусть даже неудавшейся или «греховной» любви, причем другой у них нет. Мне приходят на память чеховский «Дом с мезонином» или бунинская «Руся», где герои хранят воспоминания о трагически оборвавшейся любви как главную жизненную ценность).
Для читателя воспоминаний важно то, что сам Ялом в разные моменты и с разным успехом обращался за помощью к коллегам - психотерапевтам, сам становился пациентом, что вовсе не унижало его в собственных глазах. Как там у Ницше? «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее!» Впрочем, мне кажется, что бывает по-разному. Однако Ялом и впрямь «делался сильнее». Он учился на этих сеансах, отбрасывая потом все лишнее и формальное.
Какой жанр у этой удивительной книги? Это, конечно, в первую очередь, - роман воспитания, но есть тут и мотивы романа-путешествия, и приметы романа «профессионального», погружающего нас в психотерапевтические будни. Все дело в том, что герой – человек необычайно разносторонний, живой и открытый, любящий жизнь во всех ее проявлениях - езду на велосипеде и мотороллере, игру в покер и шахматы, плаванье с аквалангом, вкусный венский торт и т.д. и т.п. Он исколесил весь мир, Европу и Азию, был с женой, с которой, между прочим, познакомился в 15 лет, и в Москве, где его принимали в московском институте психоанализа.
При этом, как мне кажется, особенно важно, что герой жизнеописания в ходе взросления и обучения отбрасывает все существующие стереотипные психотерапевтические подходы от аналитической психологии в духе Фрейда и Юнга до биологической модели, обращаясь к мировой философии и литературе, в особенности, - к русскому роману. Это дает ему простор, свободу и ту «диалогичность» и «полифоничность», которые Бахтин находил в романах Достоевского. Возникает гуманистическая «экзистенциальная» психология и психотерапия, требующая от врача массу времени и дополнительных усилий.
Ведь он после групповых сеансов пишет свои замечания и комментарии, которые показывает участникам. А те тоже комментируют все, что происходило и его комментарии. Только в таком совместном поиске высекается искра понимания и исцеления. Причем Ялом пишет, что едва ли кто-нибудь еще из его коллег готов жертвовать на это свое личное время. А какая свобода от «авторитетов»! Пациенты в терапевтических группах обращаются к нему, как и к остальным, по имени. Со временем он даже перестал носить белый медицинский халат.
В книге воспоминаний много недоговоренностей и удивляющих подробностей. Во время ее написания автору было 85 лет (сейчас ему 93 года!), но он все еще сожалел, что подростком, проезжая на велосипеде мимо соседской девочки, с которой не решался познакомиться, кричал ей: -Привет, Краснуха! (у нее были красные пятнышки на лице). Ее отец отчитал подростка, и Ялом до сих пор испытывает стыд. Между тем, мне кажется, что дело не в отсутствии эмпатии, а в подростковой несуразной стеснительности, когда эмоциональная заинтересованность выражается в дергании за косичку или грубоватом окрике.
Так ли он виноват? И подобных, не до конца проясненных психологических моментов в книге много. Положим, удивляет исцеление от конфликтов с женой с помощью наркотика - экстази, в России запрещенного, поднесенного паре старым учителем - психотерапевтом. Тогда зачем и психотерапия? Или поездка в Индию на «ретрит», где он слушал лекции буддийского проповедника в кругу прочих слушателей, претерпев страшные лишения - у него отобрали книги, он не должен был общаться, у него пропал сон и аппетит, а скука была такая, что он непрерывно стирал свою одежду. Зачем он поехал, да еще с благодарностью потом вспоминал эту поездку?
Неужели только из-за ежеутренних распевов проповедника, напоминавших ему пение канторов в синагоге? Ведь после нее он тяжело заболел неизвестной болезнью, определить которую так и не удалось. Думаю, что это была наша родная вегетососудистая дистония, - известный российский диагноз, связанный со стрессами и перегрузками, не вошедший в международную классификацию болезней. И опять, мне кажется, тут в основе какая-то проверка себя, своих возможностей и горизонтов. Проверка другого способа существования, которое для «скептика» Ялома, судя по всему, не очень-то подходило.
В сущности, многие недоговоренности и вопросы мемуаров снимаются в авторских романах, где недоговоренное, спорное, неудобное, - развертывается и анализируется в полную силу. Романы о гениях мировой философии, будь то Ницше, Спиноза или Шопенгауэр, -демонстрируют, как мне представляется, оригинальный талант Ялома- литератора. Хочется пожелать этому замечательному человеку продолжения его опытов исцеления других, совмещенное с таким продуктивным творческим самосозиданием и развитием.


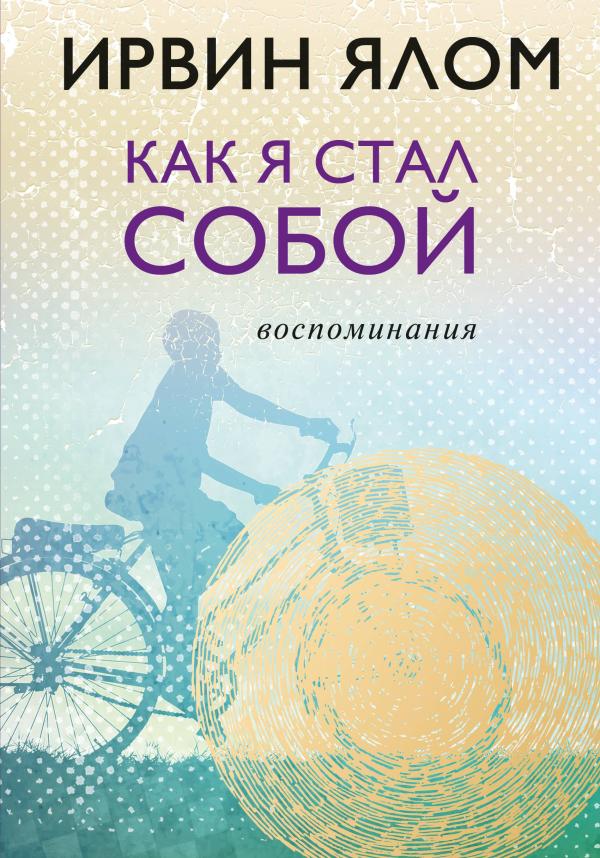


Добавить комментарий