Предполагаю, что многие жившие в бывшем СССР мало знали или, в лучшем случае, только слышали о герое этого очерка – ярком человеке с уникальной судьбой. Собрав информацию о нём из разных источников, в том числе и из двух его интервью, предоставляю читателю возможность узнать об этом человеке.
Авром Суцкевер родился 15 июля 1913 г. в местечке Сморгонь недалеко от Вильно. Среди его предков по отцовской и материнской линии были известные раввины и учёные. Мальчику было всего два года, когда семье пришлось бежать в Сибирь – подальше от фронтов Первой мировой войны. Несколько недель они добирались в далёкий, но безопасный Омск – город с большой еврейской диаспорой. Их жизни были спасены, но появились другие трудности – суровый сибирский климат и полное отсутствие рабочих мест.
В 1920 г. от инфаркта скончался отец Аврома, и его мать решила вернуться в Вильно. Этот город был общеевропейской столицей еврейской культуры; его называли «Литовским Иерусалимом».
Авром учился в хедере, потом с домашними учителями, затем в еврейско-польской гимназии, был вольнослушателем Университета Стефана Батория. С гимназических лет писал стихи – сначала на иврите, ещё не зная, что существует поэзия на идише. Получив образование, в 1929 г. он стал работать в Еврейском научном институте (ИВО), занимавшемся историей и культурой евреев Восточной Европы.
В 1932 г. Суцкевер посетил Варшаву, жил случайными заработками, много писал; в феврале 1933 г. было впервые напечатано его стихотворение на идиш «Маскнбал» («Бал-маскарад»).
Свой детский сибирский опыт, столь отличный от опыта его теперешних земляков, он сделал предметом первой поэмы, которая так и называлась – «Сибирь». Эта поэма, написанная в 1936 г., принесла молодому поэту первую славу, и её, как и изданные впоследствии сборники поэта, проиллюстрировал его друг Марк Шагал. Через четверть века ЮНЕСКО признает «Сибирь» «шедевром мировой литературы, написанным на одном из «малых» языков».
Творчество Суцкевера было замечено не только еврейскими, но и польскими поэтами. В частности, на него обратил внимание Юлиан Тувим, и это доброжелательное внимание стало через несколько лет одной из причин спасения жизни Аврома.
«Тувим был виртуозом языка, – писал впоследствии Суцкевер. – Он зарядил поэзию огнем. В известном смысле он перекликался с Пушкиным. Его переводы из пушкинской поэзии лучшие и до сего дня».
После присоединении Литвы к СССР Суцкевер работал на радио. В 1941 г. он вместе с женой и матерью оказался на оккупированной немцами территории, скрывался от нацистов. «Корабли могут тонуть на земле? / Я чувствую, как под моими ногами тонут корабли», – написал тогда Суцкевер. Вскоре он сам испытал первые последствия такого кораблекрушения – евреи Вильнюса были согнаны в гетто.
«Первая ночь в гетто / это первая ночь в могиле / потом привыкаешь», – написал Суцкевер. Тем не менее в его стихах не было ни слова смирения, речь в них шла о необходимости сопротивляться, чтобы выйти из могилы.
В гетто он стал членом боевой организации, контрабандой проносил туда оружие для участников движения Сопротивления, и даже в тех тяжёлых условиях продолжал писать стихи.
Но там они стали мрачными, прочувствованными и очень личными – например, ему довелось написать о том, как остывало у него на руках безжизненное тело первенца, родившегося там у его жены Фрейдке. По приказу гитлеровцев новорожденный сразу был отравлен – рожать евреям в гетто воспрещалось. Потом поэту пришлось оплакивать в своих стихах убитую нацистами мать.
Суцкевер стал летописцем гетто, скрупулезно описывая каждый день ужасов. Так, в одном из стихотворений он рассказывает, как эсэсовец Бруно Киттель расстреливал свою жертву, одной рукой наигрывая в это время на пианино.
Однажды Авром сказал, что стихи делают его неуязвимым для нацистов. Пожалуй, именно эта посттравматическая иллюзия объясняла его необычайную готовность рисковать собственной жизнью.
«Если бы я тогда не писал, я бы не выжил, – говорил Суцкевер в интервью The New York Times в 1985 г. – Когда я был в Виленском гетто, я верил, … что пока буду писать, у меня будет оружие против смерти». Именно эта его надежда подсказала название этого очерка.
Наверное, были моменты, когда сила воли всё же покидала его и появлялись мысли о смерти, но он справлялся:
В КАРЦЕРЕ
Сжимает в тисках меня темень ночная,
С мышиным коварством глаза выгрызая.
Я в карцере этом бездонном тону:
Найти бы привычную вещь – хоть одну!
Осколок стекла я нащупал, в котором
Луна отражается, глядя с укором:
Луна в заточенье! Рассеялся страх –
Ведь мира частицу держу я в руках!
К луне прикасаюсь у острого края:
«Ты хочешь – отдам тебе жизнь?» – повторяя.
Но жизни кипенье – и холод стекла...
У самого горла рука замерла...
(конец июня 1941 г.)
Как настоящий поэт, он даже в этих страшных условиях пропускал боль и страх других людей через своё сердце, свою душу:
ВЕЧЕР
Идут и идут они – строем, полками,
Незримы – лишь поступь слышна в тишине,
Как птицы, что скрыты уже облаками,
За образом образ исчезнут – во мне.
Идут сквозь меня, чтоб во мне раствориться,
Покой обретая – и сущность свою.
Сквозь мрак ослепляющий вижу их лица... –
Из скольких же душ я теперь состою!
(10 января 1943 г.)
В неволе особенно сильно чувствуется ценность простых человеческих радостей, которые в обычной жизни естественны и незаметны; за них не страшно расплатиться унижением и болью – вероятно, в гетто за подобные проявления чувств полагалось наказание плетью:
ЦВЕТОК
Сосед мой пронести хотел цветок весенний –
На входе расплатился он сполна:
Весну держал в руках – что может быть бесценней? –
За это семь ударов – не цена.
Не сетует сосед – ни слова сожалений:
В груди его теперь живёт весна...
(29 мая 1943 г.)
Все три стихотворения приведены в переводе В. Варнавской.
В одном из своих стихотворений «Учитель Мира» Суцкевер рассказывает историю школьной учительницы Миры Бернштейн, заботившейся об осиротевших детях (позже он назовет в её честь одну из своих дочерей), в другом повествует об изготовлении евреями-партизанами боеприпасов из свинцовых типографских матриц.
Вот ещё одно стихотворение Суцкевера, написанное там. Найденные мною переводы, как мне показалось, не передают в полной мере его образы и настроение; поэтому привожу дословный подстрочный перевод с идиша, без рифм и соблюдения ритмики (такие переводы здесь и далее обозначены знаком *):
КТО ОСТАНЕТСЯ? *
Кто останется? Что останется? Останется ветер,
Останется слепота слепого, который исчезнет.
Останется след моря: ленточка пены,
Останется облачко, зацепившись на дереве.
Кто останется? Что останется? Останется слог,
Древнейший, чтобы вырастить снова своё творение.
Останется роза скрипки, что славит себя сама,
Семь трав из всех трав смогут её понять.
Больше всех звёзд, стольких, как от севера до сюда,
Будет одна звезда, что падает в самой слезе.
Всегда будет и капля вина в кувшине.
Кто останется? Бог останется. Разве этого не довольно?
Нацисты принудили Суцкевера и других деятелей еврейской культуры в составе «Бумажной бригады» собирать в еврейской библиотеке и ИВО ценные книги, рукописи, письма и гравюры для отправки во Франкфурт, в Институт изучения еврейского вопроса.
Однажды он получил от немца, руководившего отправкой ценностей из Вильно в Германию, разрешение пронести в гетто несколько пачек макулатуры в качестве топлива для домашней печки. Документ он предъявил охранникам у ворот, а пачки держал в руках.
В «макулатуре» были письма и рукописи Толстого, Горького, Шолом Алейхема и Бялика, полотна Шагала и уникальная рукопись Виленского Гаона. В другой раз Суцкеверу удалось внести в гетто небольшие скульптуры Марка Антокольского и Ильи Гинцбурга, картины Ильи Репина и Исаака Левитана. При помощи друзей, имевших нужные связи, он привязал их к днищу грузовика, чтобы вывезти за территорию гетто.
Они сумели унести и спрятать по щелям и пустотам соседних зданий самые бесценные еврейские тексты, а также рукописи XV и XVI веков и много других ценнейших реликвий. На протяжении двух лет под страхом смерти Авром спасал объекты мировой культуры. Позже именно он помог обнаружить многие из них.
В гетто Суцкевер написал поэму «Кол Нидрей» – так называется молитва, которую читают в синагогах в Йом-Кипур. Поэма была посвящена зверствам нацистов, свидетелем которых поэт стал в Вильнюсском гетто.
Однажды в гетто пришёл из леса под Нарочью еврей-партизан. Авром отдал ему вместе с документами о гетто, ставшими первыми доказательствами геноцида нацистами евреев Литвы, и свою поэму, попросив передать её, если тот сможет, Палецкису – президенту Литвы в изгнании, находящемуся в Москве. С ним Суцкевера познакомил ещё в Варшаве Юлиан Тувим. Палецкис даже переводил тогда стихи Аврома с идиша на польский и говорил по поводу его стихов: «Я не могу освободиться от волшебства ивритских звуков».
Юстас Палецкис дружил с Эренбургом и рассказал ему про Суцкевера. Президент искал поддержки у евреев, потому что знал, какую ужасную роль играли литовцы во время немецкой оккупации.
В сентябре 1943 г., на рассвете, нацисты отобрали людей, которые должны были в этот день умереть. Среди них оказался и Авром Суцкевер. Ему пришлось рыть яму, в которую он рухнет после расстрела.
Лопаты и мотыги вырывали куски размягченной дождями земли, не встречая особого сопротивления. Неожиданно мотыга, которая была в руках у Аврома, рассекла надвое червя, и поэт с удивлением увидел, что обе его половинки продолжали двигаться... Впоследствии он написал:
*)... червь разрубленный надвое становится четырьмя
ещё один удар – и эти четыре умножаются
поэтому во мрак моего сознания возвращается солнце
и надежда наполняет мои руки:
если даже червячок не сдается удару лопаты
разве ты слабее, чем червь?
Суцкевер пережил тот расстрел. Раненый, он упал в яму вместе со своими мертвыми товарищами, их забросали землёй, но он потом смог выбраться.
Один из написанных им тогда текстов – удивительный гимн сопротивления, который он назвал «Тайный Город». В нём Суцкевер описывает жизнь десяти человек (количество, составляющее еврейский кворум «миньян», чтобы вместе молиться), которые выжили в полном мраке канализации.
У них не было пищи, но один из них берётся за соблюдение кошерной нормы. Они были полураздеты, но другой берётся за приведение одежды в порядок. Беременная женщина берётся за организацию игр и воспитания детей. У них нет врача, но один из них дает советы и утешения.
Слепой берётся за охрану, ибо мир мрака – его мир. Раввин, едва одетый в священную одежду, берёт на себя обязанности сапожника. Молодой парень становится лидером группы и организует месть. Учитель ведёт дневник-хронику, чтобы сохранить память. Поэт берётся за то, чтобы его товарищи помнили, что в мире существует красота.
Накануне ликвидации гетто Суцкеверу вместе с женой удалось в составе отряда участников сопротивления сбежать. Они взяли с собой важные для историков документы – перечень жестоких преступлений нацистов против евреев, а также доказательства культурной жизни евреев в гетто.
Позднее поэт вспоминал, как во время побега они столкнулись с часовым. Ситуация была критическая. Но вместо того, чтобы бежать или молить о пощаде, Авром расправил плечи, подошел к нему и уверенно сказал: «Я рад, что тебя встретил. Можешь мне сказать, куда мне нужно бежать, чтобы там не было немцев?».
Часовой остолбенел от такой наглости и просто показал направление, позволив им уйти. Скрывшись из поля зрения часового, поэт постучался в первую попавшуюся дверь, и местная жительница молча спрятала их в своем погребе. В Литве, где многие выдавали евреев и сами охотились на них, эта ситуация кажется невероятной.
Через несколько дней после побега гетто было полностью уничтожено. А беглецам удалось добраться до Нарочанских лесов, где они присоединились к партизанам. Авром принимал участие в диверсионных операциях, его жена была медсестрой.
У партизан была связь с Москвой. О появлении Суцкевера в отряде стало известно Эренбургу – одному из немногих интеллектуалов, которым доверял Сталин.
По-видимому, непосредственный свидетель преступлений нацистов в Литве был нужен в Москве. В 1944 г. за Суцкевером и его женой послали военный самолёт, который был сбит немецкими зенитчиками, немного не дотянув до партизанского аэродрома. К месту посадки Суцкеверы должны были пройти через минное поле.
«Местами я шел анапестом, – рассказывал Суцкевер через много лет в одном из интервью, – потом амфибрахием. Фрейдке шла за мной след в след. Я слышал внутри себя мелодию и полностью погрузился в ритм стихов. Так мы прошли целый километр между минами».
Я пытаюсь представить, как вообще можно идти в ритме стихов – например, «два безударных слога и один ударный», потом «безударный – ударный – безударный», а тем более в таких чудовищных условиях игры со смертью, когда любой неверный шаг может стать последним... Возможно, ударному слогу соответствовал более длинный шаг…
Предоставить ритму стиха решать свою судьбу мог только настоящий поэт и только фаталист. Однако именно так описывал этот эпизод Суцкевер.
Опять чудо, позволившее выжить. Все эти события – и невероятное спасение после расстрела, и реакция часового, и особенно только что рассказанный переход через минное поле – чудеса, в которые трудно поверить, но о них Суцкевер неоднократно писал и рассказывал в интервью.
Подобное встречалось и в воспоминаниях других узников гетто и лагерей, не знавших о существовании друг друга, которых тоже не раз спасали от казалось бы неминуемой смерти совершенно невообразимые события.
Наверное, есть какая-то высшая сила, нам неведомая. Не зря в философии существует понятие случайности как формы проявления необходимости.
Но вернёмся к герою моего повествования.
Спустя короткое время за ними был послан второй самолет – У-2. «Он был такой маленький, – продолжал Суцкевер, – что Фрейдку пришлось привязать к моим ногам, чтобы она не выпала. В самолете было маленькое окошко, и я через него видел, как по нам все время стреляли. «Не смотри», – просила меня Фрейдке. Но я все равно смотрел, хотел увидеть свою смерть...». Когда они приземлились, Фрейдка наклонилась и поцеловала землю.
В Москве поэт провел больше двух лет, свел близкое знакомство со многими советскими еврейскими поэтами и писателями, участвовал в работе Антифашистского еврейского комитета, познакомился с Борисом Пастернаком.
Вскоре о Суцкевере узнали миллионы советских граждан – Илья Эренбург изложил ужасающие подробности жизни поэта в Вильнюсском гетто в статье «Торжество человека», опубликованной в газете «Правда».
27 февраля 1946 г. Суцкевер выступил свидетелем обвинения на Нюрнбергском процессе. В репортаже «От имени человечества», напечатанном в газете «Правда» 4 марта, Борис Полевой так описывал это выступление:
«Еврейский поэт Абрам Суцкевер, житель Вильно, человек с европейским именем, является, вероятно, одним из немногих людей, кому удалось вырваться живым из организованного фашистами еврейского гетто... То, что он рассказал, действительно может заставить содрогнуться самого закалённого человека.
Он не называл цифр, говорил только о судьбе своей семьи. О своей жене, у которой на глазах был убит её только что рождённый ребёнок. О том, как мостовые на улицах гетто иной раз были совершенно красными от крови, и кровь эта, как дождевая вода, текла по желобам вдоль тротуаров в сточные канавы. На глазах поэта гибли виднейшие представители интеллигенции, люди с европейскими именами, учёные, фамилии которых произносились с уважением во всем мире».
Дрожащим голосом делясь этими страшными воспоминаниями, Суцкевер нервно хватался за края свидетельской трибуны и периодически бледнел почти до обморочного состояния. Его свидетельства были одним из ключевых моментов процесса. Впоследствии поэт вспоминал: «Готовясь к поездке в Нюрнберг, я молился, чтобы души погибших говорили из моего горла. Я хотел говорить на идише – языке народа, которого обвиняемые всеми силами пытались уничтожить. Но советские власти приказали мне говорить по-русски. И тогда я говорил стоя, как будто читал кадиш по погибшим людям».
Приведу впечатляющий отрывок из интервью Суцкевера через почти 40 лет:
«Когда меня собирались сделать свидетелем на Нюрнбергском процесс, мне запала в голову сумасшедшая идея – застрелить Геринга... Это было ночью, я помню, как будто пришел ко мне ангел и сказал: «Застрели Геринга», и это вселилось в меня, как диббук (злой дух – М. Г.). Я составил план – кто где будет сидеть. Позднее я увидел, что они действительно сидели так, как у меня было нарисовано. Даже сейчас я смог бы с закрытыми глазами нарисовать, где каждый из них сидел. У меня был револьвер, партизанский револьвер, мне хватило ума его не сдать, он остался у меня. Я его застрелю, так я решил. Что мне сделают? – так я самонадеянно думал.
Я едва не сошел с ума, так был захвачен этой мыслью, как одержимый стал. Я не могу это передать, это такое временное сумасшествие... Там будут стоять американские охранники, но я пройду, стану между первым и вторым охранником, выпущу в него пулю – и всё... Меня схватят, меня расстреляют – это не имеет значения.
Мне пришла в голову мысль проверить этот свой план на близком человеке и посмотреть, как это на него подействует. Лучшего выбора, чем Эренбург, нельзя было и представить. Открыто я ему всего не рассказал, но у него была умная голова, он сразу понял. Я пришел к нему прощаться, расцеловался, и он мне говорит:
– Это для вас большая сатисфакция, что вы можете отомстить убийцам нашего народа. Предположим, разговор ведь между нами, вы застрелили убийцу, – он почувствовал, что я задумал, поэтому я считаю его гениальным человеком, я ведь никому не рассказывал о своем плане, а он через приспущенные очки читал мои мысли:
– Давайте на секунду представим, что вам пришла в голову мысль застрелить убийц, – он даже сказал «Геринга»; таких проницательных глаз я в своей жизни больше не встречал, – вы же этим ничего не добились.
– Почему?
– Потому что русские не поверят, что вы это сделали по собственной воле, они будут считать, что вас послали американцы. И американцы вам не поверят – будут считать, что вас послали русские».
Он был прав, и это меня остановило, обезоружило мое не совершённое геройство».
В 1947 г. Суцкеверам разрешили эмигрировать. Они выбрали не США, а израненный войной Израиль, где идиш в то время был маргинализирован правительством как «уродливый рудимент жизни евреев в диаспоре». В сентябре 1947 г. с помощью Голды Меир они нелегально въехали на территорию подмандатной Палестины.
В 1948-49 гг. Суцкевер служил в израильской армии военным корреспондентом, участвовал в Войне за независимость Израиля.
Затем он основал журнал на идиш «Ди Голдене кейт» («Золотая цепь»), который успешно выходил в свет в течение 46 лет. Суцкевер получил признание как один из крупнейших поэтов, писавших на идиш. Один из ведущих американских литературных критиков, писатель израильского происхождения Дан Мирон даже называл его «королем идишской прозы второй половины XX века».
Участие в освобождении Негева нашло отражение в цикле «Лидер фун Негев» («Стихи из Негева») и в одной из самых крупных и сложных поэм о Войне за независимость Израиля «Гайстике эрд» («Одухотворённая земля»).
В 1985-м Суцкевер был удостоен высшей литературной награды страны – Премии Израиля. Важность его поэзии не ограничивалась идишем, её чтили и продолжают чтить во всем мире – его стихи переведены на 30 языков.
Почётный гражданин Тель-Авива Авром Суцевкер скончался в 2010 г. в возрасте 96 лет.
При жизни он категорически не давал согласия на съемки биографического фильма о нём. Только почти через десятилетие после смерти удивительная история его жизни впервые была рассказана в отмеченном наградами документальном фильме «Черный мед: жизнь и стихи Аврома Суцкевера», сопродюсером которого выступила внучка поэта Хадас Кальдерон-Суцкевер. Он получил награду Иерусалимского кинофестиваля как «лучший фильм о Холокосте».
––––––––––––––––––––––––
Источники: Википедия, интервью А. Суцевкера газете «Нью-Йорк Таймс» (1985) и журналу "Топлпункт" (Тель-Авив, 2001), статьи А. Кривошеевой «Смерть в рифму» в «jewish.ru», В. Дымшица «Авром Суцкевер» в журнале Лехаим, М. Марьяновской «Со стихами через минное поле. «Черный мед» Аврома Суцкевера» на «stmegi.com», Луиса Сепульведа «Шалом, поэт» на сайте «languages-study.com», И. Булатовского «Авром Суцевкер» в «Livejournal», м-лы портала «Стихи.ру», сайта «livelib.ru» и др.




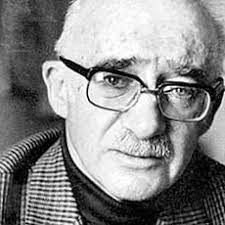


Добавить комментарий