Зал московского Центрального Дома литераторов встрепенулся и взволнованно загудел, когда председатель Второго Всесоюзного съезда писателей объявил о выступлении Михаила Шолохова.
Живой классик советской литературы медленно поднялся из-за стола президиума, всем своим видом выражая значимость и сановность социалистического реализма. К тому времени он уже был дважды Герой соцтруда, член ЦК КПСС и приехал в столицу в связи с предстоящим присуждением ему Нобелевской премии.
Он взошел на трибуну и, крепко вцепившись в ее края крупными узловатыми пальцами, начал свою речь, по-отечески обращаясь к младшим по рангу коллегам:
- Дорогие мои милые, родные вы мои ребятушки, - сказал он, медленно выговаривая каждое слово, дававшееся ему, по-видимому, с большим трудом. - Наша великая советская родина на радость и подмогу нам, старикам, взрастила вас, вырастила. Ныне надо вас довести до ума, до дела.
В зале раздались приглушенные голоса, смешки. Но Шолохов ничего не заметил и продолжал свою, как потом оказалось, мучительно долгую тягомотную речь. Я не помню, что он говорил, но помню, что открыл мне молодой парень-звукооператор, с которым познакомился на лестничной площадке во время перекура.
- Когда выступал Шолохов, я крутился возле трибуны, налаживая барахлившее оборудование для радиозаписи, - рассказал он. - Там, за трибуной, в потемках я собрался было зажигалкой себе посветить- контакт проверить. Но вовремя спохватился: такие там спиртные пары воспарялись - не приведи Господь, взрыв мог произойти.
- Да, можно было догадаться, - согласился я. - Живой классик выглядел полуживым, еле языком шевелил, здорово был поддатым.
Вторая моя встреча с автором "Поднятой целины" должна была состояться в его вотчине, селе Вешенском. Будучи на студенческой производственной практике в Сталинграде, я затесался в какую-то городскую комсомольскую делегацию, которая тремя машинами поехала на прием к знаменитому писателю. Сдуру я напросился ехать в маленьком плотно набитом людьми УАЗике, вместо того, чтобы сесть, как большинство, в открытые грузовики со скамьями по бокам. И поплатился за это.
Стоял жаркий сухой летний день, и за машинами тянулись длинные хвосты серой дорожной лёссовой пыли. Она была такой мелкой и густой, что лезла в глаза, уши, рот и, совсем не оседая, заполняла всю кабину. Ехать в этом закрытом, сильно нагревавшемся на палящем солнце железном ящике было настоящей пыткой, и я, прижимаясь мокрой от пота спиной к горячей спинке сиденья, с завистью смотрел на тех, кто ехал в открытой машине и пел веселые песни.
После многочасовой езды по ухабистым степным дорогам мы остановились у высокого крепкого забора, отгораживавшего большую территорию шолоховской усадьбы от бедной станичной застройки. Забор имел широкие ворота, калитку и будку для привратника. Это потом, с появлением загородных домов "новых русских", такая частная собственность никого не удивляла. Но тогда, в 1954 году, эта роскошь была для нас ошеломляющей.
А еще нас поразило, что кроме двух легковушек, у Шолохова была и грузовая машина, которая на наших глазах несколько раз въезжала и выезжала из ворот.
Наш предводитель подошел к привратнику и показал рекомендательное письмо Горкома комсомола. Тот сначала долго и внимательно его изучал, потом поднял телефонную трубку и стал с кем-то что-то выяснять. Прошло минут десять, пока он снова взглянул на нас, помолчал немного, затем коротко бросил:
- Секретарь подтвердил, что ему из Сталинграда действительно звонили. Так что ждите.
Мы ждали час, два, три, четыре. Начинало темнеть, и пора было уже возвращаться в город. Несколько раз мы подходили к окошку привратника. Наконец, он смилостивился и позвонил опять, после чего сказал:
- Михаил Александрович вас сегодня принять не сможет, он захворал. Приходите завтра. - На слове "захворал" он многозначительно взглянул на нас и, как нам показалось, улыбнулся краем глаз. - Могу только посочувствовать.
Это был удар ниже пояса. Вот так да, ехали в такую даль, по такой жуткой жаре, глотали пыль, потом просидели полдня под забором, и вот - "приходите завтра". Ничего себе, предложеньице!
Мы ехали к нему, патриарху советской литературы, как к Льву Толстому в Ясную Поляну, а он...
* * *
Когда-то в юности я с большим интересом смаковал "Тихий Дон", жадно глотая острые сюжетные ходы полной приключений жизни Григория Мелихова и его Аксиньи. А вот недавно на старости лет снова перечитал этот роман века. И что же?
Я снова не мог оторвать глаз от тех гениальных страниц. Естественно, что теперь, вместо изгибов фабулы, меня привлекал и восхищал прекрасный язык книги, сочные диалоги, описания природы. Я наслаждался яркими картинами цветущей южнорусской степи, медленным спокойным течением широкого синего Дона.
И, конечно, начиная читать роман, я с тревогой приближался к его второй части. Вот тогда, думал я, станет ясно, что только ее и писал этот полуграмотный пьянчуга, а первую, Шолохов просто-напросто украл у какого-то офицера Белой армии. На него похоже.
Но каково было мое удивление, когда и во второй части, где события происходят во время Гражданской войны, я без сомнения узнавал того же автора - незаурядного писателя, прекрасного художника, блестящего стилиста. Книга явно была написана одной и той же рукой. Рукой настоящего Мастера.
Впрочем, подумал я, а не наплевать ли на то, что он был "горьким пьяницей, хамом, завистником, подхалимом и антисемитом", как характеризовал Шолохова один из его недоброжелателей, в унисон со многими другими, достаточно авторитетными литературоведами, доказывавшими невозможность признания такого подонка и мерзавца творцом "Тихого Дона"?
Может быть, на самом деле, не надо с ними соглашаться? Известно ведь, что и великий Пушкин, впрочем, как Толстой, Золя, Бальзак и многие другие знаменитые представители изящной словесности, были в жизни далеко не шоколадными. А что Достоевский, мрачный зловредный припадочный антисемит, не служил дьяволу? А Цветаева, в угоду своему эгоизму и лесбиянству, не бросала на произвол судьбы сына и дочь, не открещивалась от мужа? Или Горький, приехав с энкеведешниками на режимную стройку Беломорско-Балтийского канала, не отказал в помощи больным и голодным зэкам и не восславлял сталинских палачей с Лубянки?
И разве теперь все это так уж важно? Я думаю, нет.

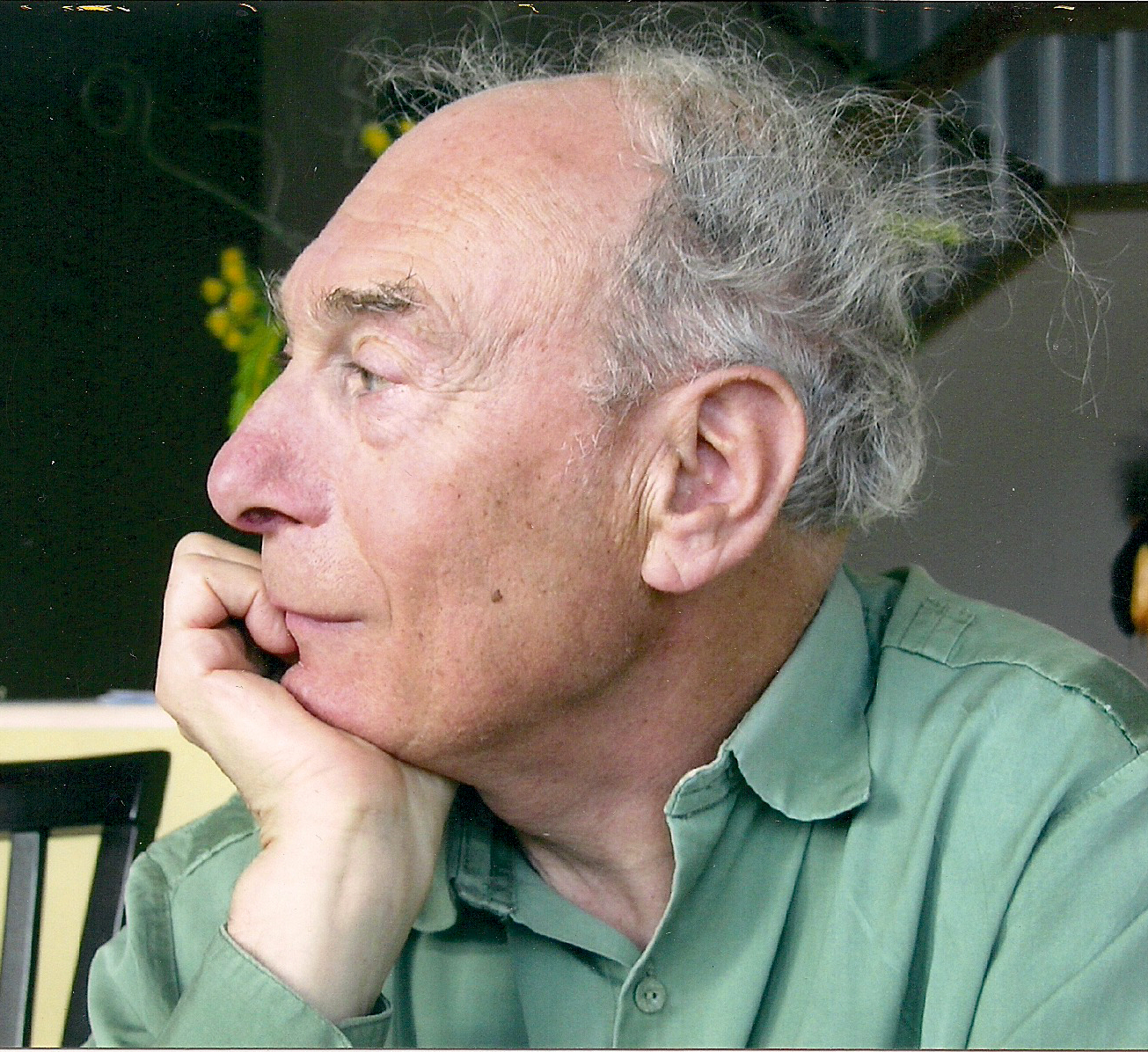



Комментарии
У Геннадия Разумова
У Геннадия Разумова повернулся язык сказать:
"А Цветаева, в угоду своему эгоизму и лесбиянству, не бросала на произвол судьбы сына и дочь, не открещивалась от мужа?"
Это - позорная клевета на великую женщины страшной судьбы.
Вот конец письма Цветаевой Сталину, написаннного зимой 1939-40 гг
https://tsvetaeva.narod.ru/WIN/kudrova/kudrG10.html
"Я не знаю, в чем обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он не способен. Я знаю его: 1911—1939 г. — без малого 30 лет, но то, что знаю о нем, знала уже с первого дня: что это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности. То же о нем скажут и друзья и враги. Даже в эмиграции никто не обвинял его в подкупности.
Кончаю призывом о справедливости. Человек, не щадя своего живота, служил своей родине и идее коммунизма. Арестовывают его ближайшего помощника — дочь — и потом — его. Арестовывают — безвинно. Это — тяжелый больной, не знаю, сколько осталось ему века. Ужасно будет, если он умрет не оправданный"
Мужа Цветаевой расстреляли, Цветаева повесилась. Ужасно...
Ужасно, если те, кто не знает судьбы Марины Цветаевой и её близких, поверят клевете Геннадия Разумова.
Смаковальщик "Тихого Дона"
Значит говорите, что не смог своровать, таким честным был ваш непревзойденный художник алкогольного слова? А как насчет самого Шекспира? Ведь уже математически доказано, что вовсе не он был автором всех своих якобы шедевров. То же самое и про вашего всегда поддатого "гения" или ваш гидрологический Разум этого никак не допускает? Да, вот такая "Судьба человека"...
Добавить комментарий