Воспоминания о секторе рая. Григорий Яблонский. Жизнь в раю. Новосибирский Академгородок (1964—1968). Franc-Tireur, 2022. 90 c.
«Вот жалко, что архивы навсегда
Погребены в развалинах Москвы,
Под толстым слоем векового льда»
(Виктор Фет, поэма «Натуралист», 2007)
Советский «эксперимент», ослепшая, ошалевшая и утопшая вместе со своими военными кораблями платонова Атлантида, будет ещё долго и пристально рассматриваться в микроскопы будущих, чуждых нам цивилизаций. Для них, для лучистого человечества, и важны будут наши воспоминания, напечатанные чернилами на целлюлозных листках, упрямо противостоящих электронной псевдодемократии.
«Счастлив, кто жил в Новосибирском Академгородке в середине 1960-х годов!», восклицает автор книги, мой старший друг Григорий Яблонский, всемирно известный учёный-химик, университетский профессор в Сент-Луисе (Миссури, США).
Яблонский обладает даром лёгкого слова — того слова, который позволял людям выжить в дремучей, вавилонской пустыне сталинизма и последовавших за ним годов застоя.
Яблонский недавно сказал о себе (выступление 16 апреля 2022): «Я родился в Киеве — который сейчас привлекает внимание всего человечества». В 1963, совсем молодым, очутился он в Новосибирском Академгородке (там некогда вырос и гулял и я, но, прилежно следуя Пушкину, отъехал далеко на юг, окончив НГУ в 1976).
Неполных пять лет (1964-1968) даёт Яблонский своему раю; после 1968 произошел фазовый переход, и реальность изменилась. Много десятилетий он не мог его вспомнить и записать: как если бы ангел-стражник на выходе пылающим мечом выжег куар-клеймо, блокирующее центры речи.
Нo вот мы читаем «репортаж из сектора рая», где клубятся имена в дыму событий уже почти 60-летней давности. Небольшая эта книга, за публикацию которой надо благодарить издателя-редактора Сергея Юрьенена, полна имён тех, кто создал этот гибрид шарашки с Касталией. Это не только академики, собравшиеся по разным причинам в Сибири по манию Хрущева. Это прежде всего оттепельная научная молодёжь, хлынувшая из столиц в образовавшуюся нишу; поколение Приваловых из повести «Понедельник начинается в субботу». Именно Яблонский, вместе с Германом Безносовым, вручал Стругацким премию (100 рублей в конверте) за эту книгу от клуба «Под интегралом» в Доме учёных — «за лучшее произведение о научных работниках».
В 1968 всё это кончилось — делом «Письма 46» в защиту Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой, которое подписал и Григорий Яблонский. В мае 1968 газета «Советская Россия» опубликует разгромную статью персонально о Яблонском «Логика падения».
Но книга повествует о делах райских, а не адских — и подробнейшим образом о кульминации райского периода, в марте того же 1968-го, о знаменитом фестивале бардов, где единственный раз в Советском Союзе выступал публично Александр Галич — перед толпой в 2000 человек. Яблонский был одним из устроителей этого великого события.
Я, увы, не присутствовал на том фестивале (я на 15 лет моложе Яблонского и в 1960-х был еще ребёнком), но хорошо помню, на детском эмоциональном уровне, именно те «райские» годы, до предела насыщенные людьми, зрелищами и живой культурой. Я помню все закоулки Академгородка, полные залы Дома учёных и ДК «Академия» (он же кинотеатр «Москва»), ботсад, где я ловил насекомых, упоительные книжные магазины, родную библиотеку, художественную школу, где нам давали вдоволь красок и глины (с 1966 г.), станцию юннатов (СЮН), клуб юных техников (КЮТ) — все это созданное с нуля, с героической помощью Михаила Качана (он оставил многотомные воспоминания о той эпохе). Я не был тогда знаком ни с ним, ни с основателями клуба «Под интегралом» — Яблонским, Анатолием Бурштейном, Владимиром Захаровым, Валерием Меньщиковым, Германом Безносовым и другими. Но многие из тех, кого Григорий упоминает в книге, были моими учителями, и «по жизни», и в школе. «Письмо 46» подписали и Раиса Львовна Берг (1913-2006), учившая меня в том же 1968 г. скрещивать дрозофил в Институте цитологии и генетики, и мой дядя Абрам Ильич Фет (1924-2007), математик и философ, во многом повлиявший на мое образование. Математику в нашей 130-й английской школе преподавал Виктор Матизен, ныне кинокритик-иконокласт. А литературу в 9 классе у нас вела Светлана Павловна Рожнова, еще одна из «подписантов» — по словам Яблонского, «смесь тургеневской девушки с комсомольской богиней», любимая учительница и символ тогдашнего «рая», жена Безносова. В её классе я делал доклад по Есенину, она же поддержала первые мои литературные труды...
И была знаменитая фраза Николая Покровского (1930-2013), филолога, проведшего 6 лет в Дубровлаге (1958-1963), много позже академика; он поразился тому, как свободно ведутся в Городке разговоры: «свободно, как в зоне». Из таких личностей (я знал некоторых; жаль, что не многих) был соткан Городок. Не все, но многие бесшабашно вели свободные разговоры даже и после 1968 года, ставшего решающим для свободы эксперимента. Когда вольность прикрыли, мне было 13 — возраст конфирмации или бармицвы, вступления во взрослую жизнь. И я помню, как в 1968 один из поклонников Стругацких, студент-биолог Юра Галактионов, царствие ему небесное, показывал мне, семикласснику, бледную машинопись — строки абсолютно запрещённого тогда Николая Гумилёва «Юный маг в пурпуровом хитоне / Говорил нездешние слова...», строки, написанные за 60 лет до того... И скоро уже будет 60 лет с тех пор... Чем же это был не сектор рая, полный древ познания и соблазна?
Особо, много и проникновенно пишет нам Яблонский о клубе «Под интегралом», у основания которого стоял он сам — а было ему, «премьер-министру» клуба, тогда 25 лет.
Характерно, что одна из первых проделок трикстеров «Интеграла», придуманная Яблонским — празднование «некруглого юбилея» встречи Бендера с Воробьяниновым. Конечно, именно книга «Двенадцать стульев», ранее полузапрещённая, была тогда легальным символом перемен. Оттепельный юмор, коктейль иронии с оптимизмом шипел брызгами советского шампанского, пар уходил в озорной гудок: празднование Масленицы, другие карнавалы, бурная песенно-танцевальная деятельность. Но были и выставки Филонова, Фалька, Лисицкого, Шемякина, устроенные неутомимым Михаилом Макаренко (сидел в 1970-77; погиб в Америке в 2007), и концерты бывшей лагерницы Веры Лотар-Шевченко (1899-1982), и опальный живописец Юрий Кононенко (1938-1995; позже оформил «Три сестры» у Любимова на Таганке); и знаменитый театр-студия Арнольда Пономаренко (мне в 16-18 лет посчастливилось быть в его составе, под самый его конец, мы ставили Дюрренматта); и десятки других плодов свободы и проектов, выпавших на долю нескольких поколений.
И, конечно, была наука. Чуть не забыл. Ну да, видимо, настоящая, мирового уровня. Об этом подробно пишет Яблонский, склоняясь к мнению, что Городок всё же не был потёмкинской деревней: столько его выпускников в 1990-е разлетелись по всему миру и воспитали сейчас уже несколько новых поколений учёных от Калифорнии до Новой Зеландии. И сам Яблонский преподаёт с 1990-х годов в Америке, работал от Бельгии до Сингапура.
«Самоорганизация талантов в свободной среде», определяет Яблонский рецепт на все времена: надо найти талантливых людей и дать им возможность самоорганизоваться. Платоновский, идеальный принцип. Но работает ли он на практике? Физматшкола-интернат (ФМШ) в том же Академгородке, устроенная великим математиком Алексеем Андреевичем Ляпуновым (1911-1973), была и доморощенной Телемской обителью, и прообразом мрачной гимназии из повести Стругацких «Гадкие лебеди». То же и Новосибирский университет: я помню и юношескую высокомерность своих сверстников-студентов, и готовность многих жертвовать порядочностью во имя карьеры, и «к предательству (вовсе не) таинственную страсть».
«Квартирный вопрос испортил их». Увы, мы видим в сегодняшней России, в какие формы вылилось пренебрежение простой порядочностью и честностью. Ректоры вузов поддерживают кровавую войну. Выродились и РАН, и РАЕН. Работает ли Сколково, странный сколок Кремниевой долины? В последующие десятилетия, и здесь я согласен с биологом Максимом Франк-Kаменецким (Бостон), российскую науку ждёт расплата за безумие вождей. Но ведь травестии науки и псевдонауки начинались и плодились в том же Городке — от агни-йоги (и я был грешен ею) и пассионариев Льва Гумилева (ныне выродившихся в Дугина и Гиркина), до Чумака, Петрика и Фоменко, до неолысенковцев, и быстрым ходом до нынешних Zомби... Вонючей плесенью, плевелами и быльём порос наш рай, золотая наша железка, ныне красно-коричневый пояс.
Я написал как-то в шуточном стихотворении на юбилей Григория: «Всю жизнь под тем же Интегралом / резвясь, как дивное дитя». Не исключено, что иммунный механизм, защитивший и сохранивший для нас и разум, и голос, и личность Яблонского — и поддержавший его великую химию (в которой я ничего не смыслю, но знаю, что она именно великая) — это именно его скоморошье слово, в реальности нестойкое, но ощутимое, как лёгкая луковая шелуха, наслоенная на горький, твёрдый и сочный плод. Должно быть, у прежних поколений философов луковка разума была защищена крепкой корой религии, а у нас осталась только шелуха юмора. А «хохма» в Каббале — это Мудрость.
Следуя любимым писателям, я хотел назвать эту рецензию «Городок обреченный».
Но вот парадокс: для Яблонского и его «поколения горящих взоров», да и для меня в детстве, он действительно был раем — или полной его иллюзией? Нынче поневоле поверишь Илону Маску, что мы живем в матрице, в видеоигре, где и дух человеческий, и злодейство поднимаются на всё новые уровни и разбиваются, падая с них. Идея не нова: скажут о чём-то, что оно новое, а оно, глядишь, уже и было в веках, бывших до нас...
«И снова бард чужую песню сложит, и как свою, её произнесёт».
Но что же остаётся нам, кроме памяти?

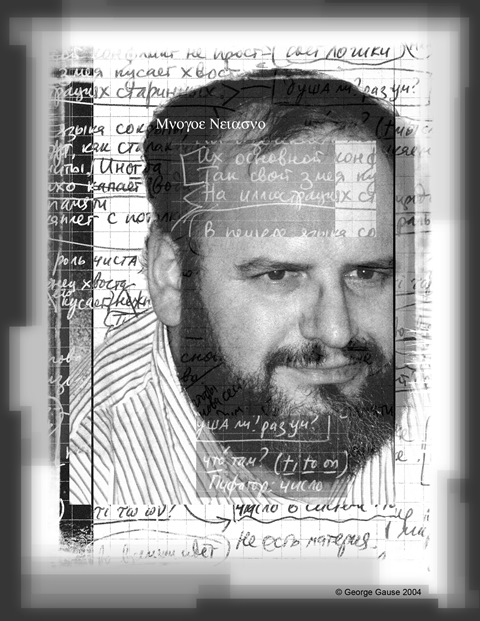


Комментарии
Прекрасная статья Виктора
Прекрасная статья Виктора Фета о книге Григория Яблонского заставляет вспомнить о мигах душевного подъема в разные, порой очень тяжелые времена.
Добавить комментарий