Первые немцы были лётчики, их обслуживали солдаты. Они заняли лучшие десять домов в центре деревни, подальше от леса. В нашем доме они заняли одну комнату (зал). В другой – передней - жили мы. Их было человек пять.
В нашем доме у них находился штаб, стояли приёмники, печатная машинка. Когда все уходили, в доме оставался их командир, он закрывал на крючок дверь и приглашал нас иногда послушать Москву по радио. Я помню, как он говорил: «Матка, Гитлер капут!» Он все понимал, был культурным человеком, играл на скрипке, был всегда вежлив, всегда здоровался, улыбался. Показывал нам фотографии двух своих дочерей и жены. Нашу маленькую Машу, ей было 3 годика, столько же, сколько и его младшей дочери, он носил на руках, целовал, давал ей конфеты, сахар, которого мы не видели ни до войны, ни в войну. С кухни приносил ей рисовую кашу.
Однажды мама сильно заболела, он отвел её к немецкому врачу, который дал ей какие-то лекарства, после чего мама поправилась. Так что и среди немцев были хорошие люди. За нашей деревней находился военный аэродром. Мой брат Володя с соседским мальчишкой возили на аэродром еду. Иногда немцы давали им гороховый суп и пудинг. Но были и другие немцы-эсэсовцы, которые сжигали деревни, загоняли людей в сараи, обливали бензином и поджигали. Все помнят Хатынь. В этой деревне партизаны убили двух полицаев. Тогда всех жителей согнали в сарай и сожгли их живьем, остался один старик, который рассказал, как всё было.
Позже выяснилось, что сожгли деревню полицаи, конечно, не без участия немцев. Особенно немцы стали зверствовать, когда появились в лесах партизаны. Если в деревне убивали хоть одного немца, за это расстреливали 10 русских. Уже в 1943 г. на каждом доме висело предупреждение, в котором было написано по-русски: «За каждого немца будет убито десять руссиш швайн!», т.е. десять русских свиней. Первыми жертвами в нашей деревне стали трое мужчин 18, 25 и 39 лет и две женщины-врачи, они работали в больнице в Толочине, а жили в нашей деревне. Они имели связь с партизанами, и их кто-то выдал. Одного мужчину застрелили за то, что он на радостях, когда у него родился сын, пульнул из ружья в воздух.
Особенно жестоко и бесчеловечно они поступили с евреями, а их в Толочине до войны проживало около 400 человек. Работали они в магазинах, аптеках, больницах и других учреждениях. Сначала их согнали на одну улицу, обнесли её колючей проволокой, поставили вышки. Дежурили там в основном полицаи, люди, если их можно называть людьми, с западной Украины. Сначала евреям раздали жёлтые звёзды и нашивки с надписью «жид»; они должны были их сами пришивать на одежду. Первое время их выгоняли на работу подметать улицы, чистить снег.
Однажды, это был очень морозный день, им приказали взять свои вещи и выйти из домов, что они и сделали. Их погнали к лесу, где была вырыта противотанковая яма-ров. Её вырыли до войны, для того, чтобы не могли пройти немецкие танки. Людей подогнали к этой яме. Среди них было много женщин, детей и стариков. И стали их расстреливать. Кто-то раненый, ещё живой, падал в эту яму. Расстреливали их в основном полицаи-бандеровцы. Один мальчишка вырвался из толпы, подбежал к немцу и стал просить, чтобы его не убивали, у этого немца случился разрыв сердца. Немца увезли, а полицаи продолжали расстреливать ни в чём не повинных людей.
Это рассказал нам наш дядя Архип, он уже был пожилой человек. Его и других стариков поймали и заставили под угрозой смерти засыпать убитых землёй. Дядя рассказывал, что из этой ямы были слышны стоны. Людей засыпали землёй – мёртвых и тех, кто ещё был жив. Это место недалеко от нашей деревни за лесом, у дороги на толочинское поле. Позже мальчишки бегали туда смотреть, дети ведь ничего не боятся, и они рассказывали, что, когда выпал снег, этот снег был кровавым. А я боялась и близко подходить к лесу, особенно после того, как нас с мамой схватили и посадили в барак.
Было это так: в деревне вывесили объявления, что в Толочин в церковь приезжает какой-то знатный священник, «архиерей». Мама не хотела идти, но наша соседка Ирина упросила ее. У неё недавно немцы убили мужа, осталось пятеро детей. Она хотела поставить свечи, и мама согласилась, хотя и не была верующей. Пошла с мамой и я. Как только мы подошли к городу, нас остановили немцы и полицаи - и погнали. Загнали в какой-то барак – большой, длинный. Помню, там были двухъярусные нары, на них была солома, у двери стояло деревянное ведро с водой, а в конце барака – параша. Мы все испугались, думали, что где-нибудь убили немца и нас расстреляют. Мы все плакали, особенно наша соседка. Она так кричала, рыдала, а полицай постукивал прикладом по решётке окна.
Так мы переночевали в этом бараке, а утром нас, детей, и пожилых людей отпустили, а молодых забрали и угнали в Германию. Меня бы тоже угнали, но родителям удалось откупиться от полицаев, которые сказали немцам, что у меня больное сердце. Среди угнанных был мой двоюродный брат Иосиф, сосед Михаил и еще один парень из нашей деревни, им было по 17 лет, и две девушки 18-ти лет. Брату и соседу повезло, они работали у фермера, спали в сарае, но их кормили, хоть и не очень сытно, а другого парня застрелили при попытке к бегству. Девушки вернулись туберкулёзными и вскоре умерли. После этого случая мама нас никуда не пускала. Жизнь в деревне продолжалась. Устраивались вечеринки, куда приходили и немцы, смотрели, как отплясывает кадриль да польку советская молодёжь.
Лётчики – элита, особая каста Гитлера. Чтобы не ходить по грязи, от начала деревни и до аэродрома они вымостили улицу, рядом с их полевой кухней поставили колонку и воду качали, она лилась из крана. А у нас были колодцы, воду черпали ведром. После того, как немцы удрали из деревни, дорогу тут же разобрали на дрова. Мужчин забрали, остались одни женщины, а топить печи было нечем. Колонки разорили самогонщики, не заботясь о том, как тяжело детям тянуть вёдра из колодца. Ничего хорошего в их жизни не было, а самогон для них был единственной отрадой. И женщины гнали самогон, чтобы как-то выжить. Они его носили к поездам, в город, на станцию.
Вскоре нас выгнали немцы из наших домов. Это был уже 1943 г., и так до конца войны мы не заходили в наши дома, а жили через два дома в маленьком домике - три семьи. Нас 6 человек, тётя с двумя детьми и соседи, их тоже было пятеро. Сделали от стены до стены двухъярусные нары. Дети постарше спали наверху, маленькие, по 2-3 годика с мамами внизу. Скоро мы увидели других немцев, особенно, когда они потерпели поражение под Сталинградом. Мы не знали, что случилось. Вдруг на каждом доме, где жили немцы, мы увидели спущенные траурные флаги, немцы плакали навздыд, напились, ходили по домам и просили самогон. Мы все притихли и не выходили из дома.
Да, это были другие немцы – не те холёные и красивые, а очень худые, на костылях, обмороженные. На свои красивые шинели они натягивали шерстяные платки, которые отбирали у женщин. Даже лапти надевали на ботинки. Они собирались закончить войну до начала зимы. Не удалось, вот и пожинали плоды своей самоуверенности. Но нас они пока не трогали. Когда партизаны пускали под откос поезда, наши мальчишки бегали собирать консервы, какую-то еду, за это их могли жестоко покарать. Но мальчишки есть мальчишки, их не удержишь.
Помню, в конце мая 1944 г. немцы открыли погреб с картошкой и нас, детей, заставили ее чистить. И вдруг, над нами пролетел первый русский самолёт с красными звёздами. Мы все вскочили и стали кричать: «Наши, наши!» Тогда повар начал пулять в нас картошкой. Мы стали разбегаться, а он побежал в дом за оружием, чтобы застрелить нас. Но тут их командир прибежал и дал команду: «По машинам!» Немцы на бегу запрыгивали в машины, а мы побежали в свои землянки. Мы поняли, что русские танки в Толочине, а это совсем близко. Немцы не успели сжечь нашу деревню, что они обычно делали при отступлении. Я помню, как к нам в землянку заскочил немец. Мы обомлели от ужаса, а он в ответ испуганно твердил: «Я чех, я чех!» В немецкой армии служили и чехи, и австрийцы, и албанцы. Особенно мы боялись австрийских эсэсовцев. Среди них был один, он приезжал пьяный и насиловал молодых женщин и девушек.
Шоссейную дорогу бомбили наши самолёты и немцам пришлось отступать через деревню. Именно так, как когда-то отступал Наполеон. История повторилась. Мне до сих пор снится один и тот же сон: я убегаю от немцев, а они меня преследуют, хотят убить.
Вот так закончилась для нас война. После обеда, когда в деревне не осталось ни одного немца, а русские танки, не заезжая к нам, шли по шоссейной дороге, мы побежали в свой дом. И что же мы увидели: немцы побросали свои шинели, одеяла, приёмники, ящики с гранатами, оружие; в шкафу лежали все документы. Мама быстренько схватила шинели, одеяла и спрятали их на чердаке сарая. Позже она нам сшила из них пальто и другую одежду. А на второй день, утром, мальчишки побежали на шоссейную дорогу, которую бомбили. На дороге лежало много трупов, убитые лошади, повозки и много всякого добра. С немцами отступали и полицаи со своими семьями. Помню, братишка принёс домой ручные часы и швейную машинку. Как же мама обрадовалась! Она всё шила руками, а тут – машинка. Она служила нам верой и правдой до 1980 г., потом купили новую.
3 июня 1944г. была освобождена вся Белоруссия и началась другая, послевоенная жизнь. Она не была легче, но уже не было так страшно. Снова приехал командир, стали забирать на войну оставшихся мужчин, хотя у нас осталось 4 парня, которым было по 17-18 лет. Они и оружия никогда в руках не держали, но их забрали; ушел на фронт и наш отец, ведь война продолжалась до 9 мая 1945 г. Целый год ещё шла жесточайшая война. С войны назад вернулись только двое – наш отец, его ранило под Кёнигсбергом, и ещё один мужчина, его ранили в ногу.
Опять пошли письма с извещениями: ваш муж, ваш сын убиты там-то и там-то. Я прочитала, что фамилия Шишко происходит от прозвищ: «шишка», «шишко» – «влиятельный человек», «нечистая сила». В старину такие имена давались детям, чтобы уберечь их от злых сил и от сглаза. Может быть, в этом что-то есть, не знаю.
Отец после ранения служил у генерала армии Ивана Черняховского денщиком: доил корову, делал творог, сметану, масло, возился с лошадьми, чистил форму, сапоги, короче, следил за хозяйством. Он видел, как в феврале 1945 года привезли раненного осколком от артиллерийского снаряда Черняховского и как он просил спасти его, со словами, что он ещё нужен стране. Это было в Восточной Пруссии. Генералу было 37 лет.
Кончилась война, и отец вернулся домой. На его гимнастёрке красовался орден Красной Звезды и две медали. Боже! Как же мы обрадовались, когда увидели, что по нашему огороду идёт отец. Началась мирная жизнь. Председателем стал молодой капитан с орденами на груди. Он долго ходил в военной форме, другой одежды не было, председатель колхоза не получал денег в колхозе, так же, как и все остальные. В колхозной жизни он мало что понимал; больше бегал за красивыми женщинами, а они все остались без мужей. Отца опять поставили бригадиром колхоза; и ему приходилось выполнять и свою, и председательскую работу. В деревне остались старики, дети и женщины. На женщин и легла вся тяжесть послевоенной жизни.
Работали от зари до зари по 12-14 часов. Тракторов и машин не было. Вся работа выполнялась на лошадях (а их было мало) и руками женщин и детей. Жали серпом рожь, ячмень, овёс, косили косой, сушили сено граблями, копали картошку лопатой. Свои огороды мы пахали на себе: впрягались и тянули плуг сами, вместо лошади, потому что на колхозных лошадях не успевали вовремя засеять колхозные поля. Я помню, была такая длинная планка. К ней привязывали верёвку к плугу, а за плугом шёл дедушка, мама сажала картошку, а мы – две маминых сестры, две соседки, я и брат, тянули этот плуг. А что было делать, так жили все. Засеивали один огород, а потом другой, у соседа. Под грядки копали землю лопатой.
Мы на своём огороде в 35 соток засеивали картошку, сеяли кусочек ячменя, кусочек льна и овощи. Изо льна получали серое волокно. Мама пряла, ткала из него полотно, потом отбеливала, а затем из него шили нижнее бельё, простыни, скатерти, полотенца и другую одежду. Мама хорошо ткала, вязала, шила, вышивала и нас, детей, этому научила. Я в 14 лет связала себе кофту из льняных ниток, платок, красивую скатерть. Чулки, варежки я умела вязать уже в 10 лет. Нас уверяли, что за границей живут ещё хуже, там бастуют. Попробовали бы мы забастовать – тут же сослали бы в Сибирь.
Спросите, а как же мы выжили? У нас была корова, молока она давала мало, кормить было нечем. Летом коров можно было пасти только в лесу. 200 л. молока, 20 кг. мяса, даже кожу от свиньи нужно было сдавать государству на кирзовые сапоги солдатам. Мама была очень хорошей хозяйкой. Солила всегда большую бочку капусты, огурцы. В лесу было много грибов: белые – сушили; рыжики, грузди и опята – солили. Утром – чугунок картошки, грибы, огурцы; в обед – щи или суп с грибами, а вечером – опять картошка с капустой. Многие жили ещё хуже, там, где в семьях было много детей, да отцы любили выпить, а их жёны ничего не умели – ни шить, ни ткать, ни вязать. Их дети ходили полуголодные и раздетые. Наш отец никогда не пил и не курил, они с мамой много работали, а мы, дети, помогали.
Так закончилось лето, в сентябре мы пошли в школу. Мне было уже 16 лет, четыре года оккупации мы не учились. Школа находилась одна в Толочине – 3 км. от деревни, другая в Гастиничах – 4 км. от нашей деревни. Нас – 13 детей. Ходили за 4 км. от деревни. Осенью – грязь, слякоть, дожди, а у нас не было ни плащей, ни зонтов. Не было книг, и не хватало учителей.
Учительницу по истории к нам прислали из Москвы. Звали её Ефросинья Ивановна. Мы её очень любили. Алгебру и геометрию преподавала Рживуцкая. Она вернулась из партизанского отряда, была очень хороший математик. Русский язык и белорусскую мову преподавали две сестры, Ванда и Элина Василевские. Сначала у нас была химичка, а позже она куда-то исчезла, а также учительница немецкого языка. Люди и после войны исчезали. Их увозил такой же «чёрный ворон», как и в 37-ом. У нас не было химии, физики, географии. Зато была ненавистная нам физкультура. Преподавал её капитан, у которого вся грудь была в орденах. Для нас это была мука. Он заставлял нас ползать по-пластунски, бегать, стрелять, конечно, его можно понять, ведь он от Сталинграда до Берлина протопал пешком в пехоте. Но нам от этого было не легче. У нас даже трусиков не было, когда был ветер, платье задиралось, и нам было стыдно, что мальчишки видят наш оголенный зад.
Вскоре и капитан куда-то исчез. Люди исчезали как в булгаковском романе «Мастер и Маргарита». Мало того, что не хватало учителей, но и учебников у нас не было. Вся промышленность в войну была разрушена. Это был 1944 г. На 13 человек была одна книга по истории, так же и по другим предметам. Не было тетрадей, чернил. Писали на газетах, немецких листовках. Чернила делали из свёклы. Отжимали сок и этим соком писали между строк. Не было карандашей и ручек. Выстругивали палочку, надрезали её, туда вставляли перо, заматывали льняной ниткой, других не было. Вот так мы учились.
Образования хорошего мы не получили. И страшно было ходить в школу, особенно зимой – два километра через лес, два через поле. Страшно и очень холодно, снег по колено, обуви хорошей не было, одежды тоже. Четыре километра пешком – полуголодные, полураздетые. Мама давала нам один горячий драник (картофельный блин), но он замерзал пока мы доходили до школы. И тогда мама сшила нам мешочек, и мы этот горячий драник прикладывали к груди. Он нас некоторое время согревал и не замерзал. В лесу было много волков. Они за войну привыкли к человеческому мясу. Даже после войны лежали в лесах, болотах незахороненные солдаты. Однажды волк напал на нашу учительницу. Счастье, что в тот момент мимо проезжал лесник с ружьём, да и волк был один. Волк искусал ей ноги и руки. После этого случая наши мальчишки шли впереди и сзади, охраняли нас, девочек. Они нам протаптывали дорогу в снегу, мы брали с собой солому и жгли её, когда шли через лес. Зимой – холод, снег; осенью и весной – дождь, грязь. Приходили в школу замёрзшие, промокшие до костей – какая там учёба. В школе стояла круглая печь. Мы её обступали и грелись. Учителя нас понимали, им тоже приходилось несладко. Осенью и зимой ходили в школу, а летом работали в колхозе вместе с родителями.
За шоссейной дорогой – это было сразу после войны был посеян овёс, и мама послала меня его жать серпом. Когда я серп опустила, чтобы захватить овёс, серп скользнул по руке и разрезал мне до кости палец на левой руке. Кровь ручьём. Я заглянула, за что же зацепился серп, и увидела оторванную солдатскую ногу. Она была в ботинке с обмоткой, которые носили наши солдаты. Я так испугалась, бросила серп и побежала. До войны здесь был смоляной завод, стояли какие-то постройки, сараи. Всё сгорело, ничего не видно, да и я не смотрела под ноги, зажимала палец, держа его кверху.
За нашим огородом было болото. Там купались дети, а женщины стирали бельё. Это был какой-то целебный источник. Называлось болото Сажалкой, потому что оно казалось чёрным, как сажа, а на самом деле, вода в нём была светлая. Я вскочила в воду, обмыла палец, одежду и побежала домой. Мама облила палец самогоном, туго завязала льняной тряпочкой, кровь перестала литься, палец зажил, но на всю жизнь остался шрам на пальце, как память о войне, о той нелёгкой жизни.
В 1949 г. я окончила школу и началась другая жизнь, хотя она оставалась такой же, как и до войны: палочки за трудодни, на которые так же получали 1 кг. картошки и 200-300 гр. зерна за 12-часовой рабочий день. В деревне не было электричества до 1968 г. Пряли, ткали, учились при керосиновой лампе, если она ещё была, а кто и при коптилке. Только с 1965 г. нам стали выдавать паспорта, платить деньги за трудодень, очень маленькие, старикам выдавать копеечные пенсии. Помню, как мама радовалась: появились в доме деньги, свет. Но как только дали паспорта, вся молодёжь уехала в город.
В 1949 г. я уехала в Ленинград, поступила в торговый техникум, хоть и не любила эту профессию, мне всегда хотелось быть учительницей. Позже эта мечта осуществилась.
В чём я приехала в Ленинград? Мама сшила мне пальто из немецкой шинели, резиновые сапоги, чулки, носки, варежки я сама связала. Связала себе кофту из льняных ниток, белый шерстяной платок с кистями, он был большой и согревал меня в холодные, зимние дни. Из льняного полотна сшила себе комбинацию. Лямочки связала кружевные сама, подол тоже, привезла с собой немецкое одеяло. Из немецкого парашюта я сшила себе первое выходное, летнее платье.
Мой брат Владимир приехал в Ленинград в 1952 году. Прошло семь лет после войны. Он с отличием окончил 10 классов, хотел поступить в авиационное училище, но его не приняли, потому, что он был в оккупации, хотя ему тогда было всего девять лет. Брат поступил в Ленинградский горный институт. А он в чем приехал? Немецкие ботинки, отцовская шинель, в которой отец пришёл с войны, хлопчатобумажные брючки, пиджачок, сатиновая рубашка, льняное бельё, сорочка, шапка-ушанка. Учился брат в Горном институте отлично, стал получать стипендию, а через год им пошили форму.
Я уже тогда работала и дала ему деньги, чтобы он выкупил форму, хотя и у самой почти ничего не было. А когда их послали на практику и он заработал свои первые деньги, он тут же отдал мне долг и послал родителям. Когда он приехал в деревню, все ему завидовали. Сам он был хорош собой, да красивая форма – маминой радости не было предела. Он никогда не пил и не курил, так же, как и наш отец. Потом брат закончил второй Инженерно-строительный институт, работал управляющим в Эстонии, а потом его перевели в Ленинград управляющим строительным трестом. Мой брат, Владимир Фёдорович Шишко, был почётным гражданином Ленинграда. Сейчас его уже нет в живых.
Я впервые попала в город, да ещё такой красивый. По улицам ходили трамваи. Жить в таком городе после колхозной жизни было для меня высшей наградой. И даже тогда, когда я вышла замуж и уехала в Узбекистан (муж военный лётчик), Ленинград мне снился каждый день в течение 42 лет. Судьба распорядилась так, что с 20 января 1995 г. я снова живу в этом городе и очень люблю его. Но Ленинград не только поразил меня своей красотой и своим величием; в первый же день он ранил мою душу. Я видела войну, её начало и конец. Она прошла вдоль и поперёк по моему сердцу. Но когда я увидела на Невском проспекте едущих на дощечках (50 на 50 см.) людей, у которых не было ног выше колен, почти до самого туловища, у меня сжалось сердце. Под их дощечками были какие-то колёсики, а на руках – щётки, при помощи которых они передвигались, и этих людей было очень много.
По Невскому проспекту ехали герои войны, у которых вся грудь была в орденах, а они просили подаяния. Меня охватил страх и обида. Как же так? Своим телом они защищали нашу Родину, они принесли нам победу, а сейчас эти герои просят подаяние, живут в подвалах, они никому не нужны. Неужели государство не может обеспечить их инвалидными колясками, хорошим питанием, лекарством, жильем? Я до сих пор не могу этого понять.
Только после того, как они вышли с плакатами на Дворцовую площадь: «Люди, посмотрите, как живут ваши герои, которые принесли вам победу!», властям города стало стыдно. После войны, их – безногих, безруких калек насильно ссылали на Валаам и на Соловки. Героев войны ссылали туда как преступников. Их там не расстреливали, но стреляли в их души своим холодным отношением к ним. Сталину мешал их внешний вид, и государство избавилось от них.
Позже в Узбекистане, в 1954 году, я увидела в городе Чирчике молодого человека без обеих рук до локтей. В магазине стояла огромная очередь за сахаром. И этот молодой человек в зубах подавал чек продавщице, чтобы получить 500 гр. сахара, а потом его продать. Он подходил к прилавку без очереди так часто, что люди, стоявшие по 2-3 часа в той же очереди, стали делать замечания продавщице, и та сказала ему: «Больше я не буду вас обслуживать». Он выругался, плюнул ей в лицо и ушёл. Прошло девять лет после войны, а картина оставалась той же.
Когда я вижу сегодня людей, несущих портреты Ленина и Сталина, мне хочется крикнуть им: «Люди, опомнитесь!» Это они убивали, гноили в тюрьмах лучших людей России. Я читала, что в Америке работает 40 тысяч русских учёных, которые обогатили и американскую культуру, науку, её экономику. А у нас миллионы людей, среди них цвет нации, были расстреляны, сосланы в Сибирь. Недавно я прочитала «Дневник» Юрия Нагибина.
Вот, что он пишет. «Уничтожено было: в Гражданскую войну – 18 миллионов; коллективизация, раскулачивание, голод – 22 миллиона; репрессии 1935-1941 гг. – 19 миллионов; война – 32 миллиона; репрессировано с 1941 по 1953 г. ещё 9 миллионов». А вот что пишет Нагибин о мнении Гитлера о Сталине: «Он жесток как зверь, но подлость у него человеческая. Когда я завоюю Россию, то поставлю правителем Сталина, конечно, под немецким контролем, потому что никто лучше не умеет обращаться с русским народом».
Коммунистическое правительство стояло у власти 75 лет. В течение всех этих лет коммунисты разваливали страну, развязывали войны (сколько молодых жизней унесла афганская война, сколько покалеченных душ, сколько денег ушло на эту войну!), обогащали и вооружали другие страны, а наши граждане – ветераны войны ютились в коммуналках.
Но я говорю о коммунистах во власти и прошу прощения у тех простых людей, кого невольно обидела, ведь коммунистов в стране было 40 миллионов и среди них были замечательные люди. Они первыми шли под пули, первыми организовали партизанское подполье, они спускали немецкие поезда под откос, а сами погибали, горели в самолётах и в танках. У нас в деревне погибло три танкиста. Имен их никто не знает. Они сгорели в танке, но не сдались немцам. Их похоронили на деревенском кладбище, а позже их прах перенесли в братскую могилу. Холм, который стоит при въезде в Толочин, мне всегда напоминает о Них. Спасибо всем-всем, и мёртвым, и живым, кто своими жизнями защитил Россию.

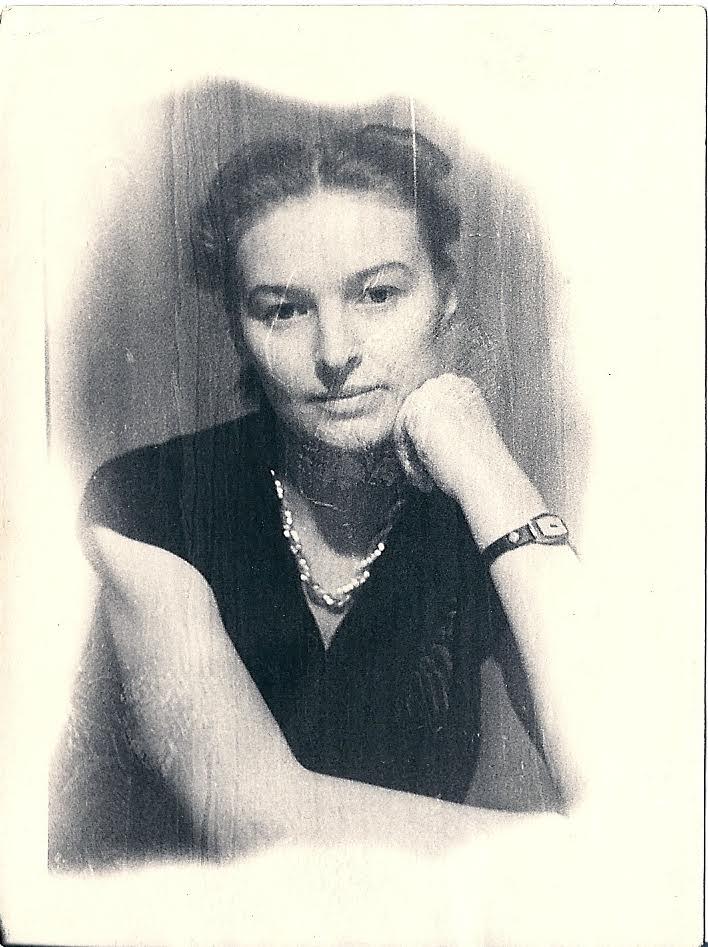





Добавить комментарий