Памяти Жанны Владимирской,
выдающейся актрисы
покинувшей этот мир
в ночь на 28 октября 2017 года
I
Осенью 1966 года среди молодых актёров, ежегодно пополнявших труппы столичных театров, была и выпускница ЛГИТМИКА, которая, по настоянию художественного руководителя московского театра им. Станиславского Львова-Анохина, вошла в репертуар со своим спектаклем. В «Медею» Жана Ануйя, созданную в институте как самостоятельная работа дипломником режиссерского факультета Валентином Ткачом, были введены новые исполнители из числа актеров труппы, но сердцем спектакля, его движущей силой оставалась юная выпускница.
Борис Александрович Львов-Анохин в те времена явного оживления театральной жизни, вызванного появлением театра «Современник», любимовского Театра на Таганке, приходом А. Эфроса в Театр им. Ленинского комсомола, а Товстоногова в БДТ, был умеренным модернистом. Пробивать в Управлении культуры – этом варианте государственного цензора того времени – постановки французского экзистенциалиста было непросто. Не то чтобы их запрещали, но первыми вопросами реперткома всегда были ограничительные «почему?» и «зачем?». Это касалось, кстати, и русской классики.
Чтобы за год до «Медеи» поставить «Антигону» того же Ануйя, например, понадобился авторитет Евгения Леонова, который захотел сыграть Креонта. Талантливому и популярному актёру театра и кино, не вызывавшему своими ролями добродушных и смешных толстяков никаких подозрений у чиновников, отказать было неловко.
Основной конфликт «Антигоны» связан с безнадежной и трудно объяснимой, но стойкой борьбой одинокой девушки с могучим царём, борьбой, в которой государственные интересы вынуждают правителя казнить собственную племянницу, не испытывая к ней ни ненависти, ни даже вражды. В эзоповской атмосфере театральной Москвы такой сюжет был несомненно острым. Но спектакль особого шума не произвел и пользовался умеренным успехом, в основном за счет неожиданного решения Леоновым роли царя Креонта, который ходил по сцене таким простоватым мужичком и по-свойски, по-людски уламывал непокорную родственницу: ну, чего, мол, ты выкаблучиваешь-то? Ты войди, мол, в моё положение, а? Антигона? Ну? Чего делать-то будешь?
«Медея», однако, безболезненно проскользнув в репертуар по следам «Антигоны» и, неся с собой неизвестное Москве имя новой актрисы, была на самом деле явлением неожиданным, несоразмерным и в результате – катастрофическим.
II
Вспомним сюжет пьесы. Колхидская принцесса влюбилась в грека Язона и помогла ему украсть Золотое руно из дворца своего отца. Убегая с возлюбленным от погони, она убила своего брата, чтобы задержать преследователей. Уже на родине Язона она погубила царя Пелия, отомстив ему за гибель родителей своего мужа. Изгнанные из родных мест они скитаются и находят наконец пристанище в Коринфе, где Язон бросает Медею и готовится вступить в брак с дочерью местного царя Креона. Отчаявшись вернуть мужа, Медея отравляет Креона и его дочь, затем убивает своих детей и на глазах Язона кончает жизнь самоубийством.
Простой перечень злодеяний опускает Медею довольно низко. Возникает, правда, одно затруднение: все её поступки продиктованы любовью и преданностью мужу, который охотно пользовался их плодами. В споре с Медеей Креон, который пытается её умиротворить, напоминает, как тяжка её вина перед людьми, и утверждает, что вина Язона не столь велика, если рассматривать его поступки отдельно, что на суде его можно оправдать. Возможно, что и так. В конце концов, дело совести сообщника оценить меру своего участия в деяниях. Правда и то, что эти двое составляли легендарную нерасторжимую пару в противостоянии ополчившемуся на них миру, пока один из них не дрогнул. Но тогда встает вопрос о предательстве. И чем меньше сочувствия вызывает предаваемый, тем острее и неразрешимее становится конфликт.
Из всех возможных трактовок мифологического сюжета именно эта легла в основу спектакля.
Напомню о всеобщей атмосфере недоговорённости, скрытых намёков и смелых иносказаний, которой дышал в то время театр. Но эмоциональное воздействие аллюзий, самоё жало и максимальный эффект эзоповского языка определяются всего лишь их неожиданностью, и ограничивается сопереживанием чужого примера, чужого поступка. Зритель при этом остаётся на своём месте, в привычных обстоятельствах.
В «Медее» зрители вынуждены были вступить совсем в другие взаимоотношения с актером. Особый дар Жанны Владимирской заставлял их занять её место, а с этого места открывалась иная, неведомая доселе перспектива бытия, в котором идеологические, политические и даже моральные обстоятельства не имели никакого значения. Не было социального бунта, с которым власть знает, как обращаться. Предлагалась не какая-то новая идеология, но непонятная свобода от всякой идеологии. Режиму это явление было настолько незнакомо, что некоторое время власти делали вид, что не замечают его и даже вручили актрисе за роль ежегодную премию.
Заметил и отдал ему должное другой свободолюбивый и известный художник – Эрнст Неизвестный, который в частной беседе с актрисой после спектакля сказал: «Тебе жить не дадут. Трагедия им противопоказана. Берегись!».
Но Жанна Владимирская служила штатной актрисой московского театра с зарплатой в 75 рублей. В тунеядстве её обвинить было невозможно, а «безумие» смирения с нищенской зарплатой она разделяла со всеми молодыми актёрами страны.
Однако, помимо вольнолюбия актриса обладала даром, в котором была тайна.
Когда читаешь мнения рецензентов, создаётся впечатление, что они либо скрывают свои чувства, либо не могут найти для них выражения в существующей системе критико-эстетических представлений.
К концу большой статьи, довольно подробно и точно описывающей развитие конфликта в пьесе, Ольга Кучкина с сожалением отмечает, что партнеры актрисы несут чисто служебную функцию подавать Медее свои реплики. «Все о чем здесь написано делает одна актриса…», – пишет она.
За этим признанием стоит нечто большее, чем простой факт сильной актерской работы на фоне слабых. Да и не все из партнеров выглядели слабыми, исполнитель роли Креона Борис Романов, например, работал очень достойно, на уровне лучших актерских норм того времени. Ощущение разрыва создавали радикально иные принципы сценического существования, о чем, опять-таки не совсем отчетливо свидетельствует рецензентка:
«Возникает одно любопытное ощущение. Владимирская – Медея до кончиков пальцев, она рождена для этой роли. Это слияние актрисы и роли, создаваемой ею, дорогого стоит. Если таким слиянием, такой естественностью Владимирская поразит нас и в других ролях, мы скажем: родилась большая актриса».
Позволю себе заметить, что эпитет «любопытное» в данном случае является весьма неадекватным эвфемизмом для определения чувства, которое зрительница испытала, но, как я догадываюсь, назвать не решилась. Слияние с ролью, как и упомянутая «естественность» – это каноны актерского мастерства, не каждому и не всегда доступные, разумеется, но встречающиеся в театре достаточно часто, чтобы не казаться «любопытными».
И еще одна важная оговорка московской рецензентки: «Если… Владимирская поразит нас и в других ролях…». Так поразила? Или всего лишь вызвала «любопытное ощущение»? Это, в общем-то, невольное признание смятенного духа.
Автор статьи, будущий поэт, прозаик и драматург, относительно свободна от идеологической белиберды. А вот слова рецензента в Перми, который знает, как следует решать социально-политические проблемы в искусстве:
«…В другой постановке, которой меньше года («Медея»), театру удался социальный пафос, хотя сама пьеса лишена всяких намеков на социальную позицию… трагически окрашенный спектакль не вызывает ни уныния, ни отчаяния. Настроение зрителей после спектакля скорее можно определить, как гнев и непримиримость, зовущие к глубоким раздумьям. И еще – признательность актрисе Жанне Владимирской… Стон Медеи – это стон всех… кто… полагает, что можно прийти к покою открестившись от преступного прошлого. Оно, прошлое цепляется за настоящее. Оно, кстати сказать, воскресает в сегодняшних воинственных разговорах, которые ведутся в мюнхенских пивных, как и 40 лет назад… Но общество, созданное на крови и насилии, не может отделаться от самого себя. Избавить мир от этого может только другое общество. Пусть Жан Аннуй не сказал, да и не пытался говорить это в своей трагедии. Но игра Ж. Владимирской вызывает у зрителей именно такие мысли и чувства…».
Попробуем оставить в стороне нелепость «гнева и непримиримости», растворяющихся в «глубоких раздумьях», и неуместность «мюнхенских пивных», о которых сам пермский автор вероятно мало что знает. Когда очень стараешься все уместить в выдержанный идеологический канон, неизбежно нарушишь и смысл, и логику. Но распутайте этот клубок, и у вас в руках останутся сильнейшие чувства – гнев и непримиримость, потребность глубоких раздумий и подтверждение тому, что к исходному конфликту актриса прибавила нечто, чего там не было. Об обществе, основанном на крови, говорить, наверно, не стоило, но для того и сочинены мюнхенские пивные, чтобы читатель, завороженный энергией авторской мысли, не успел спросить: какое же общество следует заменить другим?
Автор еще одной рецензии честно признается в своем бессилии описать впечатления от спектакля:
«Медея – Владимирская... Как трудно, да нет, совсем невозможно приложить к Владимирской термин «игpает»… O ней невозможно сказать: «Актриса сумела подняться до уровня трагедийного накала, заложеннoго в драматургическом материале». К ней не подходят слова: «тонко почувствовала свою героиню, обрела свойственные ей такие-то и такие-то черты». Нет! Это ее собственная рана, ее собственное страдание. Трудно описать словами, как действует Владимирская нa зрителей. Она постоянно держит зал в нервнoм, напряженном состоянии. Заставляет внимать каждому слову, движению губ, бровей, глаз, каждому жесту, интонации».
III
Владимирская заставляла отчетливо испытать чувство, которое лишь отчасти можно выразить следующими словами: «я бы так не смог… но и по-другому – никак нельзя!»
Искусство, даже самое сильное, не играет непосредственной действенной роли в жизни, это не входит в его задачу. Но оно безусловно способно подтолкнуть человека к осознанию своего «я». Раскрыть ему, к примеру, вроде бы простую, но устрашающую суть следующих слов Г.К.Честертона: «Добро есть добро, даже когда никто ему не служит. Зло есть зло, даже если все злы». А это, пользуясь словарем рецензентки, очень дорогая вещь, может быть дороже всего остального.
Играя свою роль, актриса не призывала к восстанию, даже не взывала к чести и совести. Она сильнейшей встряской пробуждала самосознание – эту первооснову, исходную точку любого поступка. Поступки уже не казались смелыми или опасными, они становились естественными и необходимыми, как воздух.
Это весьма важным образом меняло условия существования в рамках театрального мира, так как проявилась та самая граница, переступив которую одна сторона освобождается от двойственности и внутреннего разлада, а другая в них впадает и им подчиняется.
Вся идеологическая – и, соответственно, эстетическая – система страны были построены на истолковании добродетелей и пороков. Государство толковало их коммунистическим и атеистическим образом, искусство – с большей или меньшей художественной и символической изощренностью. Но толкование, даже внушение, каким бы тонким оно ни было, не достигает глубин человеческого сознания. Последнее прячется в тайниках человеческой души, как осторожный ребенок, которому, по словам другого поэта, Марины Цветаевой, «объяснять ничего не нужно, его нужно заклясть, и чем темнее слова заклятья, тем глубже они в ребенка врастают, тем непреложнее в нём действуют».
Этой способностью и обладала Жанна Владимирская. Разница была не в количестве эмоций и не в качестве исполнения, а в принципе воздействия на зрителя, в пренебрежении лексикой добродетели или порока. В прямой речи. Это был её собственный способ выйти из пределов режима. И осмелюсь утверждать, что другой такой актрисы в то время не было.
IV
Ее следующим успехом стал «Маленький принц».
Владимирская вошла в спектакль случайно. В первоначальном решении постановщика и исполнительницы главной роли Маленький принц был персонажем забавной, иногда смешной истории. Толстенький карапуз в кепочке с пуговкой, напоминавший Карлсона, который живет не выше крыши, тщетно боролся за симпатии зрителей, склонявшиеся по большей части к другим, явно комическим персонажам.
Когда личные обстоятельства актрисы вынудили искать замену и выбор пал на Жанну Владимирскую, она после некоторых колебаний предложила режиссеру Е. Еланской собственную концепцию роли, решительно менявшую звучание спектакля. Ко всей, проявившейся наконец нежности и обаянию героя прибавилось острое чувство трагизма, близости и неизбежности гибели.
Из мифического мрака трагедии Ануйя выкристаллизовалась и превратилась в Маленького принца «девочка Медея, стремившаяся к счастью», страстно хотевшая, «чтобы в мире царствовали свет и добро». И пропев свой хрустальный гимн жизни, этот дивный ребёнок с огромными, печальными глазами, одновременно страшась гибели и призывая ядовитую змею совершить свое черное дело, умирал, взлетал в луче света и растворялся в нем, возвращаясь на свою планету, где нам отныне не суждено было его увидеть.
Уже не мифический, но вполне Евангельский сюжет, с невероятной интенсивностью проживаемый актрисой, производил на публику совсем иное и столь же ошеломляющее впечатление. Спектакль превратился в событие и стал быстро увеличивать число зрителей.
V
Актрису тяготила невозможность использовать своё дарование в полную силу, а Львов-Анохин, наверняка понимавший в глубине души, каким сокровищем обогащена его труппа, не спешил выбирать для неё подходящие пьесы, и на просьбы назначить на роли в текущем репертуаре, посмеиваясь, отвечал: «Дорогая моя, на цирковых лошадях не возят дрова». Что было одновременно и осознанием её особого таланта, и признанием неуместности его в реальной политике театра.
Не важно, что послужило поводом к решению Жанны Владимирской уйти из Театра им. Станиславского – поводы такие представлялись почти ежедневно. И шли предварительные переговоры с другим театром. Но из этого решения, выглядевшего вызовом, и последующей болезни в гастролях, когда актриса не смогла играть спектакль, директором театра, а затем Управлением и даже Министерством культуры был сконструирован широкий скандал, который завершился запретом играть в московских театрах.
Два бесконечных года она не выходила на площадку.
Жанне суждено было еще поработать в провинциальном театре, вернуться в Москву, сыграть несколько ролей во второстепенных, мало кому известных труппах. Была испробована и другая, полукоммерческая антреприза вне театральной системы, с моноспектаклями, которые новая – концертная – система загоняла иногда на архангельские фермы и в ярославские ремесленные училища. Все сыгранные ею в то время роли пользовались зрительским успехом, но это были обычные роли, и масштаб успеха был соответствующим, приемлемым, как бы подтверждавшим, что художник одумался и вернулся в объятия режима. Что было, конечно, не так.
Новым напоминанием об этом стала программа стихов Марины Цветаевой, которую сменившиеся за это время чиновники бездумно разрешили включить в репертуар Литературно-драматического театра ВТО. Опять прозвучала растерянная, неосмысленная реакция, на этот раз в устах одного из членов приемной комиссии: «Да что же это! – восклицала зрительница, убеждавшая коллег не разрешать спектакль, – Я не понимаю! Стихи!.. Стихи!.. Просто шквал какой-то!».
Это были 60 стихотворений поэта, со всей правотой сказавшего некогда о себе: «Одна из всех, за всех, противу всех...».
Форма моноспектакля не предоставляла всех возможностей настоящего драматического представления, но сами стихи и трагическая биография одного из лучших поэтов России дали актрисе возможность максимально использовать свой завораживающий дар. Почти два года спектакль «Есть час души…» собирал полные залы на ведущих площадках Москвы, Ленинграда, Риги, Горького и других городов, пока руководство снова не опомнилось. Программа была без особого шума снята с репертуара.
Оставались еще роли и в том числе роль в спектакле по повести Шукшина «Там, вдали», в которой Владимирская пела несколько песен В.Высоцкого. Но участвовать в невеселом карнавале, который представляла собой театральная, да и вся художественная действительность, становилось всё тяжелее.
У поэта остается возможность наедине с самим собой создавать то, к чему он призван – даже если его отрывают от читателя на родине. У актера такой возможности нет.
А есть личные отношения с некоторыми участниками правозащитного движения и угнетающие переживания их горьких лагерных судеб. Есть вторжение советских войск в Афганистан, летние Олимпийские игры в Москве, на которых многие страны отказались нести свои флаги в знак протеста. Смерть Владимира Высоцкого. Есть положительная роль прогрессивного директора в советской производственной пьесе.
И есть нестерпимый стыд пассивного соучастия в грехе.
Жанна Владимирская уходит в изгнание, к тем, кто разделяет её стремление к свободе, и кто вынужденно или по своей воле находится на Западе – к Солженицыну, Бродскому, Барышникову, Нурееву, Ростроповичу и Галине Вишневской, Эрнсту Неизвестному, Георгию Владимову, Андрею Синявскому, Науму Коржавину и многим, многим другим.
Означает ли отъезд осознанный разрыв с призванием? Об этом свидетельствуют все объективные обстоятельства. Но остаётся не совсем ясная надежда, что в какой-то неведомой форме удастся найти применение своим силам и дарованию. А если судьба и вынуждает расстаться с профессией, что для художника такого масштаба равносильно гибели, то перед уходом, казалось, звучат обращенные к Язону, предсмертные слова Медеи: «А теперь попробуй забыть меня…».
VI
Встреча с американским театром тоже началась неожиданно – с сыгранного по-английски Моцарта в одной из «Маленьких трагедий» Пушкина. Но не было никаких сомнений, что продолжать работу следует только на своем языке.
Существовало активное сообщество русской эмиграции, в котором живы были ещё интереснейшие представители второй, послевоенной волны. Сразу же открылась перспектива знакомых форм моноспектакля, и первым успехом становится программа «Моё святое ремесло», поэтическая биография Марины Цветаевой, в которую кроме освобождённых от цензуры стихов, входят доступные теперь проза поэта, письма, отрывки из дневников и воспоминаний современников. Те, кому в первую очередь следовало бы спектакль увидеть, живут за океаном, но благодарный зритель есть и здесь.
«Мы все реже встречаемся с истинно трагическим ощущением в театре, – писал рецензент в Нью-Йорке. – Пользуясь словами Гарсиа Лорки, называвшего театр «школой слез и смеха», можно заключить, что во втором своем предназначении он преуспел, а о первом постепенно забывает. Мы охотно миримся с этой утратой, в самой жизни находя достаточно причин для горьких переживаний. Как быстро схватывающие, самонадеянные ученики, мы полагаем, что учиться тут нечему. Но как неожиданно, как неописуемо прекрасно бывает открыть, что ты заблуждался. Что… нестерпимое переживание горя, которое заставляет нас испытывать актер, вычищает душу от обильного хлама наших будней… распутывает узлы бесчисленных и ложных обязанностей, оставляя одну-единственную – быть человеком, осознать глубину и значение человеческой судьбы».
VII
Вскоре судьба распорядилась, чтобы голос Жанны Владимирской обрёл высокую трибуну и, поддержанный авторитетом знаменитой радиостанции, вернулся на родину. Актриса поступила на работу в русскую редакцию Голоса Америки.
Новым журналистским обязанностям, состоявшим, в сущности, в той же проповеди свободы, сопутствовали поиски формы, более близкой актерскому дарованию. И когда такая форма была найдена, почти двухлетняя серия чтений книг Н.Я. Мандельштам стала, по словам одного из слушателей, «пожалуй, не меньшим событием, чем в свое время появление из самиздатовских источников стихов поэта на папиросной бумаге».
Это было уже прямым обращением ко всей интеллигенции страны. Западное издание талантливой книги – слова вдовы погубленного властью поэта, существовало там лишь в немногочисленных экземплярах. Теперь это слово оживало в проникновенном изложении актрисы, и слушало его неизмеримо больше людей, чем могло – или хотело – прочитать.
«Когда вы читали «Воспоминания» Надежды Мандельштам, я старался любым способом к часу передачи оказаться дом, - писал один из слушателей, - глубина и трагедия вашего прочтения действительно потрясли меня;
и ваша редкая для сегодняшнего русского актёра культура языка!
И еще более редкое чувство человеческого достоинства…».
Даже пятнадцать лет спустя сначала одна российская радиостанция – санкт-петербургское «Радио России», а потом другая – московская «София» попросили права на ретрансляцию чтений книг Н.Я. Мандельштам. А ведь это не было весёлым шоу для привлечения рекламы.
VIII
Внешние пути Жанны Владимирской и Иосифа Бродского, некогда пересекавшиеся в студенческие питерские времена, сошлись еще только раз, непосредственно по приезде актрисы в Нью-Йорк. Но внутренне эта связь и поддержка, которую актриса черпала во всё углубляющемся творчестве поэта, неизменно крепла. В аннотации к одной из будущих актерских работ – аудиозаписи «Рождественских стихов» – говорилось: «То, что мы живем в одно время с Иосифом Бродским, ощущалось, как редкая, иногда незаслуженная, привилегия. Его присутствие – в стихах, эссе, беседах, речах, даже его меняющийся с годами облик, не только приносили радость и новое постижение жизни, но обязывали помнить о собственных скромных возможностях и стараться их не растерять. Испытывать восторженное и почтительное благоговение перед ним означало, в то же время, чувствовать сильнейшую побудительную энергию этого человека, требующую соответствия – посильного и даже превышающего твои силы».
«Что же мы будем делать с этим голосом?», – улыбаясь спросил Бродский актрису во время той последней встречи в Нью-Йорке. Ответ потребовал многих лет и прозвучал уже после смерти поэта, когда Владимирская выпустила диск «Что нужно для чуда» с записью его Рождественских стихов, а ещё через несколько лет создала моноспектакль «С берегов неизвестно каких. Иосиф Бродский. Монолог». Предуказанное самой природой вещей и неизбежное сотрудничество породило редкое художественное явление.
Разделяя восторженное и почтительное благоговение [авторов записи] перед Бродским еще до знакомства с диском, - писал рецензент, - теперь я готов вернуть им слова, которыми они определяют свое отношение к поэту: нам невероятно повезло… что Жанне Владимирской по душе стихи Бродского. Актеров много, и многим он по душе, но, право же, я не слышал, чтобы кто-то из них так владел его языком, чтобы вновь и вновь вызывать его к жизни для нас».
Впечатления автора рецензии вызваны только голосом, лишь одним из множества выразительных средств актрисы. А среди таковых Жанна Владимирская располагала ещё и загадочным даром превращать пластику в энергичный символ.
IX
Убийство отсутствующих во плоти детей в «Медее» – одним жестом обоих – осуществлялось методом пантомимы. Никак этого не подчёркивая, актриса делала головокружительный трюк, как бы отказываясь от помощи материальных средств, опасно приоткрывая тайну своего магического мастерства: «Смотрите внимательно. У меня в руках ничего нет. И детей нет. Мне нечем вас обмануть. Если до этого мгновения ваши чувства и мысли определялись только театральной, актёрской реальностью – вы свободны от наваждения».
И происходил сдвиг в пространстве. Уже не через рампу пролегала связь зрителя и актрисы. Она молниеносно выбрасывала зал в другое измерение, где всё было прозрачно ясно, и смерть обретала ужасающе кровавые и неумолимо вечные черты.
Смерть самой Медеи тоже была сыграна непросто. После яростного шумного последнего столкновения с Язоном она, ударив себя в живот опять же несуществующим кинжалом, медленно, долго, острожно укладывалась на квадратном камне в середине сцены и, свернувшись в клубочек, замирала. Это был не конец Медеи, а конец эпохи, мира, мифа.
Такой же символической мощью обладала смерть Маленького Принца во взмахе рук и скользнувшем сверху вниз луче света, и лежащая табуретка в цветаевском спектакле. Поднимая её с полу в начале действия, актриса всего лишь напоминала, о какой судьбе пойдет речь. Но когда в преддверии финала, глядя прямо в зал, она незаметным движением опрокидывала её обратно, это было тем же разоблачением какой бы то ни было магии – петли не будет, трупа не увидите. А зритель видел гораздо больше, чем способны изобразить современные сценические средства, но – внутренним оком, прозревающим в потусторонние дела.
X
Тем временем, расставшись с Голосом Америки, Владимирская осуществляет давно задуманный спектакль об Анне Ахматовой – еще одной крупнейшей фигуре в судьбе русской поэзии и истории.
Моноспектакль «Анна Ахматова. Жизнь и судьба» это радостный и печальный гимн поколению, полному сил и дарований, но вынужденному свирепым режимом постепенно уйти со сцены. С ними уходила из жизни страны целая культура, на созидание которой ушли столетия, а на восстановление – если ему суждено совершиться – уйдет, вероятно, не меньше времени. Может быть, больше, поскольку для новых поколений, лишающихся не только связи с этой культурой, но уже и памяти о ней, легко может наступить эпоха варварства и опустошения, когда окончательно истощатся усилия тех, увы, немногих, кто, не причисляя себя к элите, является ею в самом истинном смысле слова и продолжает свой подвижнический труд.
Рецензия на вашингтонский спектакль начинается с описания его финала.
«Я понимаю, что по правилам надо начинать аплодировать. Но в горле комок. Вероятно, и у других зрителей. Потому что никто не аплодирует... руки не поднимаются. Но ведь встреча с Божественным и не предполагает аплодисментов. Слезы, просветление – то, что древние греки называли катарсисом, но не аплодисменты. Наконец на сцене появляется Жанна Владимирская, и тут все, как по команде, встают и начинают хлопать. Крики «Браво!», «Спасибо!», кто-то вытирает глаза, кто-то подбегает ко мне и спрашивает: «Как можно после этого жить так, как мы живем»?
Этот спектакль, как и возобновленная работа по Цветаевой, уже были сыграны во многих американских городах, когда возникла идея ещё одной, более долговечной и доступной более широкому кругу зрителей формы.
Диск с записью стихов Бродского не был первой работой такого рода. Уже существовали записи Цветаевского спектакля, альбома песен на стихи Германа Плисецкого и русских романсов. Теперь предстояло освоить искусство видеозаписи.
Время неудержимо уходит, стирая память о прошлых событиях, уводя с собой их свидетелей. Но оно же несёт с собой новые, расширенные возможности запечатлевать эти события и распространять их независимо от границ и с молниеносной скоростью.
Сделана видеозапись спектакля «Анна Ахматова». Затем еще один, уже третий вариант обращения к творчеству Марины Цветаевой – на этот раз в форме телеспектакля «Моим стихам настанет свой черёд», с новыми текстами и изобразительным рядом. Последняя работа совпала с кануном 70-летия со дня гибели поэта и посвящалась этой дате.
XI
«...отменить длинноты,
буквы вообще. И начать монолог свой заново,
c чистой, бесчеловечной ноты».
И. Бродский
И вот – последняя, возможно, самая значительная работа актрисы.
Жанр спектакля «С берегов неизвестно каких» по произведениям Иосифа Бродского Жанна Владимирская определила, как монолог. И по ходу действия возникает мысль o том, что этот, по преимуществу театральный термин содержит, кажется, более глубокий смысл. И духовный, и нравственный.
Вся жизнь человека может стать монологом. Может и не стать. Чаще всего не становится.
B этом смысле жизнь Иосифа Бродского несомненно была выразительнейшим монологом. Монологом становится и сценическое действие, осуществляемое актрисой.
Пустая площадка — это, кажется, не только единственно подходящее место для Монолога, но и вообще самые предпочтительные декорации для Жанны Владимирской. «Медею» Ануйя, наделавшую в свое время столько шума в Москве, она тоже играла на пустой сцене, где единственной декорацией был плоский квадратный камень-жертвенник, лежавший в центре площадки.
Это истинный театр одного актера — не в количественном отношении «одного, a не многих», a в качественном: «только, одного лишь» актера. Если задуматься, то другого театра никогда и не бывало.
Драматургически спектакль являет собой довольно длинный ряд стихотворений, соединяющихся загадочным, не вполне объяснимым способом, который, тем не менее, совершенно реален и, образуя сюжет, действует в спектакле на равных правах c его героем. Несколько прозaическиx отрывков укрепляют сюжет, прочно связывая его c человеческой биографией.
Условия сценического одиночества в спектакле, играемом одним актером, помогают актеру непрерывностью, но заставляют играющего монолог размером в спектакль совершать двойную работу, создавая в своем сознании не только невидимого партнера, но и его предполагаемые действия.
B описываемом спектакле этим партнером — не таким уж, кстати, и невидимым и не в одном лишь сознании присутствующим — становится мироздание и, предположительно, его Создатель, наедине c которыми остается, в конце концов, герой монолога. Это его, мироздания, жестам и поступкам, претворяющимся в события биографии, приходится противостоять. И, поскольку побед в этом противостоянии не бывает, a поражение терпит каждый, кто в нем не равновелик, тот, кому удается произнести монолог до конца и заявить o своей готовности начать сначала словами, вынесенными в эпиграф этой главы, встает c мирозданием вровень.
O таком стоянии свидетельствует судьба и наследие поэта. Оно являет собой и своеобразный вызов нам, предложение по-своему ответить мирозданию похожим способом, доказывая, что все мы не беспомощны и не окончательно покинуты.
Именно такую попытку с успехом осуществила Жанна Владимирская в своем спектакле.
Говоря об актерском искусстве – и особенно о чтении стихов – принято называть это искусство исполнительским.
Я склонен считать, что понятие «исполнительское искусство» вообще содержит противоречие в определении, подобно искусству прикладному. Настоящее искусство — всегда авторское, ибо предполагает творчество, создание прежде не бывшего.
B стихотворении нашла свое выражение некая драма между вопрошающим лирическим героем, который не всегда даже выступает в качестве реального персонажа, и мирозданием. Поэт, являясь непосредственным участником этой драмы и получая тем самым возможность первозданного откровения, ответа, так сказать, из первых рук, вьшолняет свою роль творца, выражая это откровение в форме стиха. Этот захватывающий дух процесс, вероятно, и побудил И. Бродского говорить об особой стремительности и неожиданности мышления в поэзии. Иными словами, этот опыт — уникальный опыт перевода внезапных и ослепительны открьггий в материю стиха — и составляет суть поэтического творчества.
Но создать стих и прочитать стих — это совершенно разный опыт.
Для актера способность увидеть сквозь стихотворение эту драму и проникнуться ею создает возможность своего собственного откровения, в котором свидание поэта c Мироздaнием становится средством получить ответы на некоторые вопросы, поэтом не заданные, возможно его в тот момент не интересовавшие, и, может бмть, способные изумить его самого.
B описываемом спектакле как раз этот самостоятельный творческий феномен является частью драматического действия, и чтения стихов в привычном смысле в нем нет. Стихи, наравне c прозаическими фрагментами являются драматургическим материалом, на основе которого создается новое художественное произведение.
Последнее, что мне хотелось бы отметить, это парадоксальная правомерность произнесения Монолога именно актрисой, a не актером. Причем речь идет не об исполнении женщиной мужской роли, что случается в театре сплошь и рядом. Сама Жанна Владимирская, как я уже упоминал, c колоссальным успехом сыграла в свое время в Москве «Маленького Принца» в инсценировке сказки Экзюпери и Моцарта в американской постановке «Маленьких трагедий» в Hью-Йорке.
Но в Монологе речь идет o совершенно ином соотношении актера и роли, и другой вариант кажется просто непредставимым. Те есть, представить себе актера в этой роли ничего не стоит, но в этом случае зрителю никуда не уйти от сопоставления личности поэта и личности актера. Как бы ни старался актер этого избежать, для зрителя он будет изображать Бродского. B случае c актрисой такого сопоставления заведомо не может быть. И наоборот, образ частного лица, «всечеловека», «безымянного анонима», «одного из» — центральный образ мироощущения Бродского — оживает в реальном персонаже.
Но я описываю спектакль, который больше никто не увидит. Впрочем, существует видеоверсия, и я попробую объяснить, почему я считаю её рaвноценной.
Мне кажется, что Жанне Владимирской удалось создать какой-то новый вид искусства, не похожий ни на запись спектакля, ни на телеспектакль, ни на кино- или телефильм. Разумеется, даже этот вид несет в себе неизбежные ограничения раз и навсегда зафиксированного явления или процесса. Но вот само это явление и сам процесс настолько необычны и интенсивны, что возникает ощущение бездонной глубины. Как будто эту запись можно смотреть вновь и вновь, каждый раз отмечая другие подробности и испытывая новые впечатления. Дело тут конечно в том, что именно становится предметом изображения и в особой, тонко выбранной системе выразительных средств, нейтрализующих тяжелое давление экрана.
И замечательно, что существуют эта версия. С ее помощью актриса по-прежнему обращается c Монологом к миру.
Напомню, что описываемый спектакль — не первая подобная работа актрисы. Ей предшествовали моноспектакли «Моим стихам наступит свой черед» (по произведениям Марины Цветаевой) и «B то время я гостила не Земле». Анна Ахматова: жизнь и судьба». Все они существуют в видео-версиях.
B одном из последних интервью актриса согласилась, что эти работы можно считать своеобразным триптихом.
«Цветаева была предтечей, — говорила Жанна Владимирская, — провозвестницей отказа принять новую, советскую действительность, заявив: «Не возьмешь мою душу живу». Она стояла y истоков этой действительности. И вопреки всем испытаниям, выпaвшим на ее долю, включая изгнание, сумела сохранить свой дар, свой властный голос. Ахматовой пришлось пережить все испытания этой эпохи внутри. Ей удалось сберечь и выразить тяжкий, горький, тюремный, в сущности, опыт современников. Ее можно, по английской традиции, считать «национальным поэтом» своего поколения, голосом его жертв. Иосиф Бродский стал новым национальным поэтом, голосом великого Отказа. Его отказ от подневольной общности родился не из другого опыта, как y Цветаевой, и не был тщательно скрываем, как y Ахматовой. Времени нужен был человек, который не потеряет себя и в том случае, если y него будет отнято все. O таком человеке за годы режима забыли. И им стал Бродский, избравший свободу, которая «всего милей, конца, начала...». Так что, можно сказать, что Бродский, наш современник, сумел восстановить связь времён, перекинуть мост между ушедшим поколением, поколением уходящим и нами. Без него наш собственный опыт остался бы невыраженным, не нашедшим формы, не вошедшим в искусство и в историю. А судьбы все трех — Цветаевой, Ахматовой и Бродского — это и есть истиннaя история страны».
Но эта трилогия представляет собой потрясающую ценность ещё и как совершенно новый театральный феномен. Это не только яркие драматические портреты трех выдающихся художников. По мере развития действия в них зритель знакомится с совершенно самостоятельным живым персонажем — неким четвертым лицом, возникающим от сложной мутации жизненного облика поэта, его, развивающегося во времени творчества, прозрений актрисы и её завораживающей индивидуальности. Это новое лицо, подобно классическим литературным образам Дон-Кихота, Дон-Жуана, Гамлета, Кола Брюньона, князя Мьшкина, становится олицeтворением одной из вечных идей, тревожащих наше сознание. В данном случае это идея внутренней свободы и независимости человеческой личности, которая мужественно справляется c одиночеством, сопутствующим такой свободе, и высоко ценит некоторую долю иронии по отношению к самой себе.
Удивительным образом трагизм этой судьбы не повергает вас в отчаяние, a ровно наоборот — вселяет надежду.
Бесконечно далекий от проповедничества и, тем более — нравоучительства, одному из аспектов такого существования Иосиф Бродский все-таки советовал следовать: «Если мы хотим быть свободными людьми, нам следует научиться — или, по крайней мере, подражать — тому, как свободный человек терпит поражение. Свободный человек, когда он терпит поражение, никого не винит».
Жизнь Жaнны Владимирской, полная трудов, лишений, радикальных смен обстоятельств и перенасыщенная творческой энергией, вызывает желание подражать герою Монолога, утверждая тем самым еще и вечную ценность человеческой личности, которую действительность упорно стремится обесценить. Личности, не донимaющей других вопросом «что делать» и, уж в любом случае, не доискивающейся «кто виноват», a достойно исполняющей свою судьбу. «Как Шопен, никому не показывающий кулака...»
Мы расстаёмся с выдающейся актрисой, выбравшей своей профессией самый эфемерный вид искусства и, по нашим обывательским меркам, поплатившейся за этот выбор, за свой уникальный дар и свободолюбие недостаточным признанием. Но есть и другие мерки, другие перспективы, другие ценности. А у актера есть особое свойство и, возможно, преимущество перед другими художниками – когда его талант способен соединиться с высшими силами, его воздействие становится столь пронзительным, что может переворачивать, глубоко преобразовывать сердца и души зрителей. Это случается не сразу, и поскольку процесс этот долог и почти неуловим, он впоследствии не всегда связывается в памяти с его инициатором. И в этом отчасти исток печали и вечной неудовлетворённости актёра своими работами.
Жанна Владимирская обладала этим свойством в высшей мере.
И есть основания надеяться, что все те, кого творчество Жанны Владимирской сумело преобразить, продолжат её тяжкий и прекрасный труд, передавая это духовное наследие многим другим.
В статье использованы следующие материалы:
1. «Двое в мире». О. Кучкина. Москва. 1967 г.
2. «Современный смысл спектакля». С. Гравин. Пермь, газета «Звезда», 1968 г.
3. «Штрихи к портрету». Н. Глухова. Горький, газета «Ленинская смена», 1971 г.
4. «Моё святое ремесло». В. Толшин. Нью-Йорк, США, газета «Нове русское слово», 1984,
5. Письмо слушателя Голоса Америки. Москва, 1991 г.
6. «Слепой поводырь» (Надежда, Шуберт, Мандельштам). А. Чекалов. Чикаго, США, газета «Реклама», 1997 г.
7. «Что нужно для чуда…». В. Энтенман. Нью-Йорк, США, газета «Новое русское слово», 2006 г.
8. «Впечатления от одного моноспектакля». В. Генисаретская. Вашингтон, журнал «Чайка», 2007 г.
9. «Моё святое ремесло». И. Гринберг. Миннеаполис, США, газета «Северная звезда», 2008 г.
10. С. Волков. «Диалоги с Иосифом Бродским». Москва, «Эксмо», 2002 г.
11. Страница Жанны Владимирской в интернете: www.zal.us

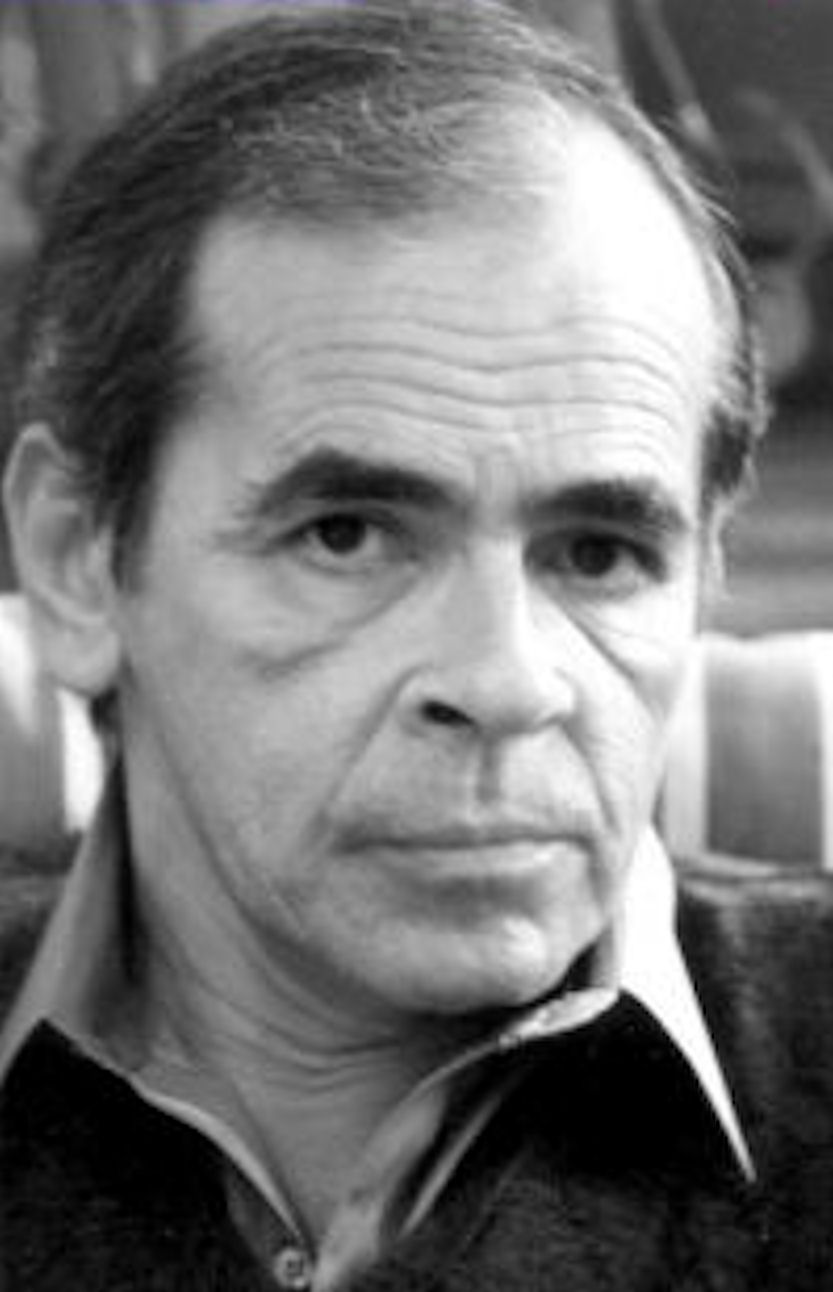







Добавить комментарий