ПЕРВО-КЛАССНЫЙ АКРОБАТ
Первой моей учительницей была некая Агния Петровна, строгая неулыбчивая женщина с тугим пучком волос, завязанных на затылке узкой черной ленточкой.
Несколько дней подряд я носил в 1-ый класс деревянного акробатика, которого я никак не мог оставить одного скучать дома. Состоявший из плоских дощечек, он ловко подгибал согнутые в локтях руки и умело прятался в портфеле между тетрадкой по письму и «Азбукой». Он вылезал из-под парты чаще всего на уроках правописания, когда Агния Петровна брала в руки мел и отворачивалась к грифельной доске. Но, оказалось, что у нее, как у рыбы, неплохо было развито боковое зрение. Для моего Ванечки оно стало роковым. Ему не удалось спрятаться под парту так же быстро, как училке схватить его за чубастую головку.
- Получишь обратно только, когда родители придут, - грозно прошипела она со злой ухмылкой.
Вообще-то я плаксой никогда не был, но на этот раз, придя из школы домой, горько расплакался. Мама мне стерла платком с щек слезы и заверила, что все будет хорошо, и не обманула. На следующий же день мой бедный акробатик вернулся в свою картонную коробку, где его поджидал грузовичек-"петька" (пятитонка) и оловянные солдатики.
- Но учительница на тебя жалуется не только из-за этой игрушки, - сказала мама. - Она говорит, что ты еще и плохо рот открываешь, не отвечаешь, когда тебя о чем-то спрашивают. И потом, - мама помялась немного, затем слегка улыбнулась. - Что же ты нам не сказал, что в первый день описался? Вся парта по словам Агнии Петровны мокрая была. Неужели не мог попроситься выйти? Что же ты у нас такой стеснительный растешь?
Вот так, увы, и в дальнейшей своей жизни, никогда я смелости ни в чем не проявлял, каким был застенчивым плюхой, таким и остался.
СЛАДОСТЬ И ГОРЕЧЬ ОБИДЫ
В тот день мы с бабушкой вышли из метро, чтобы ехать на дачу. У здания вокзала мой взгляд уткнулся в раскладной столик, где стоял ящик с мороженым. Дородная продавщица вытаскивала из него белые кирпичики и с ловкостью циркового фокусника их обменивала на тянувшиеся к ней со всех сторон цветные бумажки.
- Ку-у-пи мне мороженое, ку-у-пи, - заканючил я, потянув бабушку за руку.
- Нет, нет, мы опаздываем на электричку, - отказала она, - следующая будет только через час.
И пришлось, глотая слюну, пройти мимо вожделенного лакомства.
Но подойдя к перрону, мы увидели, что наш поезд уже сдвинулся с места и быстро стал набирать скорость.
- Ну вот, из-под носа ушел, - вздохнула бабушка, - как я боялась, так и получилось.
И она устало опустилась на скамейку. Потом бросила на меня, делавшего стойку охотничьей борзой, хитрый взгляд и сказала с улыбкой:
- Вижу, вижу, чего тебе хочется. Ладно, вот возьми денежку, иди, купи. Только не ешь большими кусками, а то горло заболит.
Возле мороженицы по-прежнему толпились сладкоежки. Я угнездился за девочкой с косичками-сардельками и парнем постарше. Как и они, я поднял руку с зажатой в кулаке рублевой ассигнацией. Ждать пришлось очень долго. Наконец, продавщица соблаговолила взглянуть в нашу сторону, забрать деньги, и я с удовольствием разжал занемевшие пальцы.
Прошла еще пара томительных минут, девочка осторожно развернула бумажную обертку и погрузила язык в белоснежную сладкую массу, а парень, небрежно разорвав бумагу, жадно вонзился в брикет зубами. Я же ничего не получил и нетерпеливо следил за рукой продавщицы, которая резво летала туда-сюда, но все мимо меня. После долгого ожидания я не выдержал, легонько потянул продавщицу за белый нарукавник и промямлил жалким голосом:
- А где же мое мороженое?
Но никакого ответа не получил. Я еще постоял несколько минут, переминаясь с ноги на ногу и с завистью поглядывая на тех счастливчиков, которые торопливо распаковывали и лизали свои лакомства. Наконец, я решился еще раз дернуть продавщицу за рукав, теперь немного посильнее.
- Чего тебе? - буркнула она недовольным голосом.
- Вы же мне мороженое не дали, - в глазах моих по-девчачьи предательски что-то защипало.
- Ишь ты, какой шустрый, - отрезала продавщица. - Давай деньги, получишь мороженое, - и резко от меня отвернулась.
- Вы же взяли у меня деньги, - воскликнул я в отчаянии - и услышал громкий грубый отлуп:
- Глянь, какой наглый врун-обманщик, уматывай сейчас же отсюда, а то я милицию позову.
У меня щипание в глазах перешло в мокрую стадию, а мороженщица, заметив вопросительно-укоризненные взгляды стоявших рядом взрослых покупателей, уже не так остервенело добавила:
- Вот жди, когда все распродаду, посмотрим, если что останется.
Но я ничего ждать не стал и, размазывая слезы по щекам, побежал к бабушке...
Зачем так странно, так несправедливо устроена память? Почему все плохое остается в ней даже с разными мелкими подробностями, а хорошее забывается? Вот ведь ту детскую обиду я помню в деталях, а как конкретно она завершилась, забыл. Скорее всего, моя энергичная бабушка поставила на место ту подлую продавщицу, а может быть, она заплатила за мороженое еще раз. Но вкус у него был совершенно обалденный! Это-то я не забыл.
ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Из всех впечатлений детства наиболее ярко высвечивается в памяти то, как я, сжимая коленками голову отца, в стройной колонне сотрудников его института демонстрировал 1-го мая на Красной площади преданность родной партии и правительству. Вначале с досадной беспомощностью сквозь плотную ограду полотен первомайских плакатов я безуспешно пытался на Мавзолее Ленина достать глазами товарища Сталина.
Но потом мне вдруг несказанно повезло - в просвете рядов знамен и плакатов среди черных костюмов членов ЦК четко вычленилась коренастая фигура великого вождя в форменном кителе и фуражке защитного цвета хаки. Я потянулся к нему всем своим телом и подпрыгнул от радости, чуть было не свалившись с папиных плеч. Затем изо всех сил напряг зрение и - ура, ура! Мы встретились с генералиссимусом глазами, он приветливо мне улыбнулся, поднял руку и долго ею мне махал. Вот было здорово!
И все же полностью я не был удовлетворен, так как сильно завидовал счастью черноволосой девочки таджички Мамлакат, обнимавшей Иосифа Виссарионовича на всюду красовавшихся цветастых картинах-плакатах.
В то время вообще со всех стен, как внутренних, так и наружных, за каждым гражданином СССР, кроме главных советских вождей, внимательно следили и зоркие глаза знаменитых писателей, ударников социалистического труда, стахановцев, выдающихся деятелей искусства. Это хорошо укладывалось в многовековые православные традиции русского народа. Стародавние иконы Христа, Богоматери, святых и апостолов удачно замещались образами Чкалова, Водопьянова, Расковой, Гризодубовой и других "сталинских соколов", летавших к облакам, в стратосферу и на Северный полюс.
Не знаю, какими они все были героями, но с одним из них, Иваном Папаниным, -позже я встречался, когда стал членом Всесоюзного географического общества, а он был его председателем. Этот обласканный властью околонаучный деятель с кругозором фабричного завхоза тогда показался мне туповатым малообразованным мужиком, хотя и явным хитрованцем.
Выправляли нам извилины в мозгах и прямоточные лозунги типа "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство" или "Народ и партия едины". Разного рода призывы, напоминания и предупреждения постоянно сопровождали нас даже в повседневном быту. Так, над входом в столовую нашего летнего детского сада крупные ядовито-зеленые буквы строго указывали: "Мойте руки перед обедом", а на веранде, где мы возились, когда шел дождь, большой фанерный плакат учил, что "сморкаться надо только в платок!"
ЦАНГОВЫЙ КАРАНДАШ
Мой папа работал в одном из ведущих "почтовых ящиков", как тогда назывались "номерные" закрытые учреждения оборонного назначения, названия и адреса которых скрывались за таинственными цифрами (номерами) и аббревиатурами. Отец был довольно успешным инженером-сталелитейщиком, и его неоднократно приглашали на всякие важные совещания.
Одним из них было немецко-советское, ставшее следствием заключенного в 1940-м "Пакта Молотова-Рибентропа". Отец принес с него красивый цанговый карандаш фирмы Крупп. Он лежал на письменном столе и манил меня своим ярким стальным блеском. Ну, конечно, я не удержался и днем, когда никого дома не было, решил выяснить, как выдвигается грифель из этой диковинки и что за пружинка у нее внутри.
Грифель сломался сразу, а пружинка вылетела через пару минут. Пришедшая с работы мама заохала-заахала, безуспешно пыталась карандаш починить, потом сказала: «Вот уж тебе теперь достанется».
Услышав в коридоре шаги отца, я страшно испугался и залез под широкую родительскую тахту, стоявшую у стены. Но к моей радости никакой взбучки не последовало и маме с папой долго пришлось меня уговаривать вылезти из моего убежища, обещая, что порка мне не грозит. Потом я, как обычно, забрался под длинный байковый халат, в который отец всегда облачался, приходя с работы, и весь вечер ходил с ним по квартире из угла в угол.
ДЕТСТВО РАЗЛОМИЛОСЬ ПОПОЛАМ
Утро того воскресного дня было солнечным и теплым. Над дачным поселком поднялось раннее июньское солнце и било в глаза прямой наводкой. Мы завтракали на террасе, и мама время от времени проводила со мной воспитательную работу:
- Не чавкай, ешь с закрытыми губами. Помнишь, я тебя учила? И не ерзай на стуле, не вертись, ешь спокойно.
Но я не мог не вертеться, так как с улицы несся призывный клич :
- Генка-а-а! Выходи-и-и!
Это был Вольтик, с соседней дачи.
Я поскорее домучил яичницу и, поспешно выскочив из-за стола, побежал на улицу. Вольтик щелкал курком своего черного жестяного пистолета и бил в нетерпении ногой по нашей калитке.
Пх-х, пх-х, - стрелял он, - Ура! Война!
Во всех играх он любил командовать и всегда назначал себя главным. Поэтому на сей раз я поспешил опередить его и громко закричал:
- Чур, я - красный. Беги, а то догоню, у меня тачанка и пулемет.
Вольтик перестал стрелять и подскочил ко мне вплотную. Глаза его горели, он был возбужден и задыхался от переполнявшего его восторга.
- Дурак ты! - закричал он громко. - Взаправдашняя война началась! С настоящими фашистами. С немцами. По радио только что передавали. Мой папа сам слышал.
Я не совсем еще понял, в чем дело, но мне, конечно, было обидно, что о такой прекрасной вещи Вольт уже знал, а я нет. Опять он меня обставил. На всякий случай, я выразил сомнение:
- Врешь ты все. Моя мама все знает, уж она-то сказала бы мне.
Вольтик с глубоким презрением смерил меня взглядом сверху вниз и поднял ладонь ко лбу, как пионер, каковым ему предстояло стать еще нескоро.
- Честное октябренское слово! - сказал он торжественно. - Честное ленинское, честное сталинское, честное слово всех вождей.
После такой серьезной клятвы мне ничего не оставалось, как поверить Вольтику и еще раз признать его верховенство.
Увы, очень скоро все подтвердилось: война действительно началась и стала стремительно набирать темп.
Это она все изменила в моей счастливой довоенной жизни, расколола детство пополам.
Через неделю в Москве было введено ночное затемнение, означавшее плотное занавешивание окон, сквозь которые свет от лампочек не должен был проникать на улицу (виновнику грозила тюрьма или даже расстрел). Вслед за этим поступило указание об укреплении оконных стекол, и я, встав на табуретку, помогал взрослым заклеивать их крест-накрест длинными полосками газетной бумаги.
А потом как-то поздно вечером черная тарелка-радиоточка у нас в коридоре взорвалась оглушительным ревом сирены и взволнованным окриком «Воздушная тревога!»
УСАТО-ХВОСТАТОЕ ЧУДОВИЩЕ
Мы были эвакуированы в холодный уральский Златоуст. Наша комнатка в коммуналке, кроме двух коек и стола, умещала табуретку с керосинкой и железную печку-"буржуйку", кормление которой обеспечивала высившаяся у стены поленница дров.
В тот день я сидел за столом и умучивал трудные слагаемые и делимые, лениво переносимые мною из учебника по арифметике на страницу тетрадки в клеточку. Но мои глаза больше шныряли за окошко, где дворовые мальчишки кидались друг в друга грязно-белыми снежками и сине-зелеными ледышками.
Вдруг боковое зрение заставило меня вздрогнуть и съежится от ужаса - из-под верхнего ряда дровяных поленьев вылезла огромная серая крыса. У нее был тонкий голый хвост и длинные косые усы. Не обращая на меня сначала никакого внимания, страшное животное неторопливо дошло до угла, остановилось и повернула ко мне голову, вонзив в меня свои маленькие злые глаза. Я в панике вскочил на ноги, топнул одной из них, после чего крыса медленно от меня отвернулась и, постояв немного, без спешки двинулась дальше. Через минуту она вообще скрылась в своей деревянной норе. Дрожа всем телом, я влез в пальто, натянул на ноги валенки и, схватив ушанку, выскочил на улицу.
Вечером, придя домой с работы, мама переложила дрова в коридор, после чего с мерзким чудищем я больше не встречался.
ПИРОЖОК С КОТЯТИНОЙ
Военное время было очень голодное, с рынка мама в обмен на свои московские платья, кофточки, юбки и украшения приносила молоко в виде твердых кусков льда - можно представить сколько в нем было самого молока и какова была его жирность, если оно так замерзало. Хлеб делили по веревочке - сначала ею буханку измеряли, затем ее складывали, и хлеб разрезали пополам, потом еще раз складывали и снова разрезали. Таким путем одной буханки хватало на целых 4 дня.
Большой "амецией", как называла это по-идишски бабушка, была какавела - таким немного смешным, но красивым именем обозначалась шелуха, остававшаяся от обработки какао-зерен. Эти ошметки-очистки, отходы производства, нелегально выносились работницами местной кондитерской фабрики и продавались из-под полы в подъезде соседнего дома. Какавела заваривалась кипятком по нескольку раз, и первая заварка казалась поистине волшебным напитком, особенно, если она еще и сдабривалась хотя бы одной таблеткой сахарина, которую бабушка с лукавой улыбкой торжественно извлекала откуда-то из своих буфетных тайников.
Нашу семью от голода немного выручала выдаваемая по карточкам в рабочей столовой казенная подкормка - УДП (Усиленное Дополнительное Питание) - чаще всего это была одна лишь каша, имевшая лошадиную кличку "Иго-го", то есть, овсяная. Ее обычно на месте не ели, а несли домой, детям.
По праздникам иногда мамино заводское начальство баловало своих работников какой-нибудь изысканной едальной премией. Вот например, к 7 ноября маму однажды наградили пирожком с мясом (с "котятами", как тогда шутили). Она принесла его домой и утром, уходя на работу, воспитательно-педагогично сказала с улыбкой:
- Придешь из школы, съешь половину, а другую оставь мне.
Перед тем, как взяться за уроки, я ровно разрезал ножом пирожок и съел половину. Потом, сделав домашнее задание по арифметике, подумал: "Мама же велела разделить пополам..." Взял нож и уполовинил пирожковую половину. После выполнения упражнений по письму я, снова подумав, что беру половинку, отсек от пирожка еще. Потом опять повторил эту операцию. Так продолжалось до тех пор, пока от бывшего роскошества остался маленький кусочек, ничем не напоминавший о каких-либо признаках мясной начинки. И я подумал: "Что же тут оставлять-то?" И, естественно, поспешил уничтожить позорное свидетельство своей невоздержанности.
Придя домой после работы, мама помыла руки под краном, переоделась в домашнее платье и принялась чистить за столом картошку.
- Ты уроки-то сделал? - Спросила она меня, рассеянно глядя куда-то вдаль.
А о пирожке она, наверно, забыла.

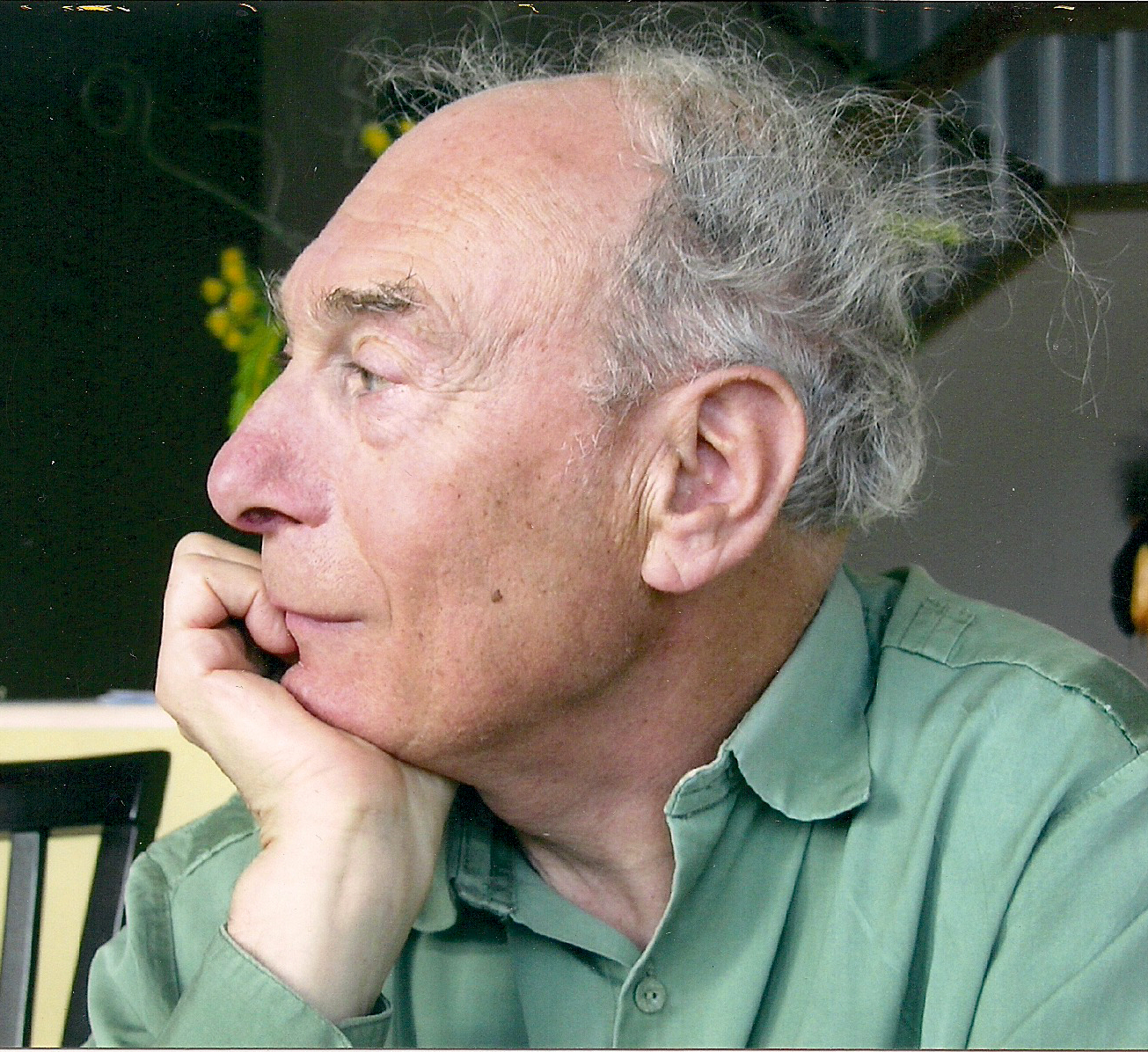


Добавить комментарий